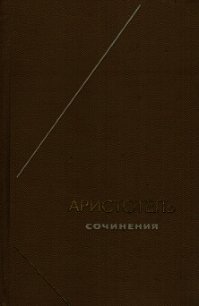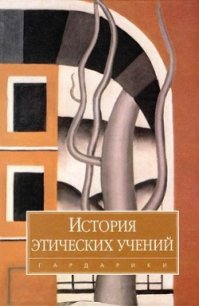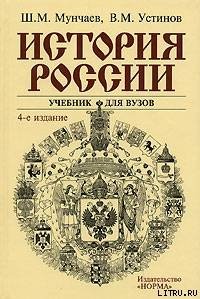Этика - Гусейнов Абдусалам (читать бесплатно книги без сокращений .TXT) 📗
Второе. Сознательно выраженная воля к жизни и бессознательная воля к жизни — не одно и то же. Последнее также не может быть проигнорировано в этическом рассуждении. Сознательно выраженная воля к жизни возможна только при наличии бессознательной воли к жизни. Первая не может иметь безусловного приоритета перед второй. Во всяком случае надо ясно признать следующее: аргументируя допустимость эвтаназии тем, что такова сознательная воля самого больного, мы тем самым признаем, что если бы больной был в состоянии распорядиться своей жизнью, когда та по принятым меркам оказывается невыносимой, то он бы сам прекратил ее, т. е. мы фактически признаем право на самоубийство. Однако не все, кто признает право на эвтаназию, признает право на самоубийство.
2. Жизнь можно считать благом до тех пор, пока она имеет человеческую форму, существует в поле культуры, нравственных отношений. Деградировав до сугубо витального, дочеловеческого уровня, она лишается этической санкции и может рассматриваться как объект, вещь и потому вопрос о ее прекращении — не более чем вопрос о том, срубить ли высохшее дерево или выполоть ли засоряющую огород траву.
Этот аргумент поражает прежде всего своей схоластической вымученностью, эмоциональной пустотой, ибо помимо внешней стороны человеческой жизни существует ее внутренняя сторона. И до какого бы зоологического, растительного уровня она не деградировала в фактическом (физиологическом, медицинском) плане, это вовсе не значит, что человек готов относиться к себе или к своим родным в таком состоянии так же, как он относится к высохшему дереву или чертополоху.
Однако рассматриваемый аргумент уязвим и в рамках бессердечной казуистики. Разумеется, человеческая, культурно-нравственная форма жизни и жизнь физическая — не одно и то же, и этика начинается со сделанного устами Сократа признания, что жизнь хорошая, достойная выше, чем жизнь сама по себе. Однако первое не существует вне второго. Человеческая форма жизни, или жизнь достойная, вне жизни самой по себе суть полная бессмыслица. Нравственно-ценностный мир всегда дан в чувственно-конкретной, вещественной форме. Нет матери, нет друга самих по себе вне телесной единичности данной женщины, данного мужчины, вне тех, кого я называю моей матерью, моим другом. Эта связь морального смысла с вещью, в которой он воплощен, является настолько плотной, что сама вещь предстает уже не как вещь, а как носитель (символ, знак) смысла. Здесь уместно напомнить об отношении человека к мертвым останкам своих собратьев: могилы, хранящие безжизненные кости, являются предметом благоговейного поклонения, и отношение к ним рассматривается как показатель отношения к тем людям, напоминанием о которых они являются. Если нравственное отношение к человеку распространяется на его останки, то тем более оно должно распространяться на живое тело, пусть даже исковерканное болезнью.
Но если даже отвлечься от того, что человеческое тело сплошь символично, насыщенно смыслами и является скорее фактом культуры, чем фактом природы, и рассматривать его в сугубо физическом, природном аспекте, то и в этом случае оно остается в поле нравственности — по крайней мере, в той степени, в какой мы имеем обязанности перед природой. Жизнь даже в форме растений вызывает определенное благоговение. И вряд ли правильно отказывать в этом людям, оказавшимся на растительном уровне жизни.
3. Поддержание жизни на стадии умирания, осуществляемое с помощью сложных технологий, обходится слишком дорого. А именно: средств, которые тратятся на поддержание жизни в безнадежных ситуациях, хватило бы на то, чтобы лечить десятки, сотни, тысячи людей, которые поддаются лечению.
Этот аргумент является сугубо практическим и имеет, разумеется, свое значение в пределах практических решений, связанных с распределением финансов, организацией системы здравоохранения. Но его нельзя принимать во внимание, когда речь идет о нравственном оправдании эвтаназии. Ведь в этом случае речь идет не о финансовой, социальной, психологической и прочей целесообразности эвтаназии, а о том лишь, можем ли мы считать ее нравственным актом.
Дополнительные аргументы «против»
Таким образом, мы видим, что аргументы в пользу эвтаназии не являются этически бесспорными. В дополнение к тому, что было сказано в ходе их опровержения, можно добавить следующее.
Этическая санкция эвтаназии увеличивает опасность злоупотреблений со стороны врачей и родственников. Опасность злоупотреблений, которая существует вообще, усиливается применительно к ситуации безнадежной болезни. Врачи, дорожа профессиональной репутацией, не любят пользовать умирающих больных. Родственники могут желать смерти больному из-за наследства и прочих соображений. Мораль, как известно, является одним из последних барьеров на пути разного рода злоупотреблений. Если же признать эвтаназию благим делом, то этот барьер снимается. И люди в своем поведении по отношению к умирающим в страданиях собратьям получают неограниченные возможности для того, чтобы выдавать зло за добро, грешить с чистой совестью.
Еще одно и самое важное возражение против эвтаназии состоит в том, что она нарушает принцип святости человеческой жизни. Табу, которое она снимает, есть табу самой нравственности. Эвтаназия исходит из тезиса, что благом является не жизнь сама по себе, а жизнь в определенном качестве. Сама эвтаназия мыслится как достойный способ поведения в ситуации, когда жизнь теряет качества, которые делают ее благом. Это — тонкий софизм: из утверждения, согласно которому жизнь, нацеленная на благо, выше, чем жизнь сама по себе, делается совершенно незаконный вывод, будто жизнь сама по себе не является благом. На самом деле жизнь, нацеленная на благо (достойная жизнь), возможна только потому, что она сама по себе обладает достоинством, является благом. В рамках мировосприятия, признающего жизнь благом, аргументировать эвтаназию невозможно. В самом деле, признать благом жизнь как таковую значит признать, что она остается благом до тех пор, пока она есть жизнь, даже тогда, когда становится по преимуществу страданием.
В заключение сошлемся на пример, свидетельствующий, что эвтаназия является невыносимой нагрузкой на человеческую совесть. Это — так называемый случай доктора Джона Краая [210]. Доктор Краай, уже пожилой человек, был обвинен в 1965 г. в умышленном убийстве своего восьмидесятиоднолетнего пациента и друга Фредерика Вагнера. К тому времени тот уже пять лет страдал болезнью Альцгеймера — распадом высших корковых функций, никого уже не узнавал, не помнил себя и ничего не сознавал. Мучился тяжелыми болями. Чтобы прекратить страдания друга, доктор Краай тайно, никого не уведомив, ввел ему тройную дозу инсулина. Вызванный ночью к больному, он зафиксировал его смерть. Когда истина вскрылась, доктора арестовали. Отпущенный под залог, он через две недели сделал инъекцию себе и ушел из жизни. По-видимому, он ужаснулся того, что сделал. Он понял: благое, как ему казалось, дело эвтаназии на самом деле есть убийство. Такая оценка ситуации связана вовсе не с тем, что свое ужасное решение помочь умереть страдающему другу доктор Краай принимал в одиночестве, тайно от всех. Это обстоятельство, скорее, придало данному случаю экспериментальную чистоту, не позволив индивидуально обязывающую силу нравственного решения растворить в коллективной безответственности. Мотивы Джона Краая, врача и друга в одном лице, также были безупречны; как врач он знал о безнадежности и субъективной тяжести болезни, как друг он не имел никакой корысти, если не считать корыстью то, что он хотел освободить себя от муки видеть муки близкого человека. И если при всех этих предпосылках он усомнился в нравственной справедливости своих действий, то это значит, что он своими действиями перешел предел, переходить который запрещено нравственностью.
Таким образом, эвтаназию по существу дела вряд ли можно считать благим деянием. Такой вывод не отменяет ситуаций, когда надо принимать решение о том, продолжать или нет лечить безнадежного и мучительно страдающего больного (например, у человека нет средств, чтобы одновременно оплатить лечение двух равно близких ему людей, один из которых находится в состоянии комы, а у второго сохраняются надежды в случае дорогостоящей операции). Этот вывод лишь обязывает выбор в пользу эвтаназии всегда считать злом.