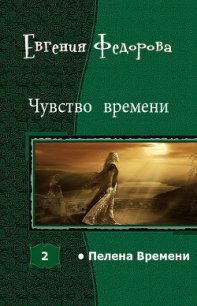Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Все это важно для нас, потому что связано и с проблемой миров у Пруста. Именно потому, что мы слышим, – не просто физический предмет, именно потому возможен, скажем, в другом мире (не в нашем, не в человеческом мире) незвуковой эквивалент звука. Возможны, например, тепловые образы у иначе устроенных существ. А иначе устроенные существа означали бы – существа, проделавшие в мире другую историю и отрастившие себе другой феномен. У них – другой феноменальный материал, на котором воспринимаются и разрешаются поступающие извне воздействия физического мира. Здесь глубоко спрятана и проблема эквивалентов, проблема, во многих местах у Пруста выступающая. Но сейчас я не буду об этом говорить, я просто хочу сделать понятными для вас те случаи, когда я употребляю слово «доопределяет», или когда предмет определяется (в качестве воздействующего на нас) определенным образом, вместе с нашим движением в этом предмете. Как бы предмет и я вместе идем ко мне, чтобы быть мною определенно воспринятым. Именно в тех случаях, когда я говорю о проблеме измерения, я употребляю слова «доопределение», «двигаться в мире», «феноменальность мира» и тем самым возвращаю вас к тому, о чем говорил, – суть дела состоит в том, что наши состояния, фиксируемые в эстетических феноменах, – события в этих состояниях происходят с еще одним дополнительным измерением. Это – измерение понимания и сознания, частично ушедшее в совершившиеся акты первовместимости. Например, мы убедились, что мы можем нечто воспринимать в качестве цветов, если у нас уже есть их какая-то предварительная вместимость: мы можем вместить их в себя сейчас, потому что были какие-то акты по отношению к ним раньше. Скажем, в Париже цветы у продавщицы цветов: они потому цветы, потому что были цветы в Бальбеке. В Бальбеке что-то совершилось и сделалось – и инскрипция совершилась в памяти. И вот, пожалуйста, здесь у нас есть цветы. Вы можете представить, что, если есть инскрипция, могла быть ведь и другая инскрипция, – и был бы другой мир. Ведь по отношению к звуку – потому что у нас есть определенная история (у человеческих существ) с нашими органами чувств – у нас есть инскрипция феномена звука. Но возможна и другая инскрипция, и другие существа, может быть, имеют ее, но, поскольку мы не можем проникнуть внутрь этих существ, мы никогда не сможем, – что самое сложное представить себе? – изнутри представить себе чувствительность других существ (мы даже чувствительность других людей не можем представить). А поскольку – не можем, то, как говорит Пруст, такие миры некоммуникабельны, не сообщаются друг с другом.
С этим пояснением я возвращаюсь к проблеме измерения. Наши состояния, в том числе эстетические состояния, реальны с учетом дополнительного измерения. (Реальности их мы не можем получить, пользуясь двумя измерениями: тремя измерениями предметного мира плюс одно измерение каких-то странных свойств нашего сознания. Это означало для Пруста другую психологию.) Дело в том, что психологическая наука разделяет с нами, с человеческими существами (предметом психологической науки), один предрассудок: для психологической науки мы как бы не являемся механизмами, потому что и у психологов, и у людей есть несомненное чувство сознания. Наличие внутри каждого переживания, каждого восприятия, наличие внутри него какого-то гомункулуса, который изнутри же самого этого же переживания несомненно чувствует, что он переживает, и это переживание «нефизично» и называется сознанием, – поэтому он чувствует себя психологичным или чувствует себя не машиной. Прустовская психология строится совершенно иначе: она показывает, что это – иллюзия. Что в действительности, – испытывая такого рода эмбриональные состояния, или позывы психичности, или гомункулусности какого-то маленького ментального существа, сидящего внутри каждого ощущения и придающего ему характер ощущения (то есть это психическое явление), – вот это все есть иллюзия. В такого рода случаях мы чаще всего, наоборот, являемся механизмами, а не механизмы – там есть простая игра: как описывается ревность, перекрещивающиеся взгляды Сен-Лу и Марселя, которые могут быть описаны без внесения элемента внутренней духовности, и описаны более точно, чем то, что воображает себе духовность, внутренне сидящая в каждом акте и внутренне придающая каждому испытывающему человеку печать уникальности и индивидуальности, – такая печать иллюзорна. Почему? – потому что она анализируема. И, следовательно, индивидуальность анализируемого устранима.
И вот Пруст к открытию этого измерения идет путем реального испытания. Для него открытие этого измерения есть не спекулятивный вопрос, не теоретический вопрос, решаемый так или иначе путем аргументов и холодных доказательств, а есть вопрос жизни или смерти. То есть – вопрос о том: кто я? где? что со мной происходит? И в этом надо разобраться, и от этого жизнь моя как бы зависит (если пародировать немного вопрос Достоевского: мне идею разрешить надо, и жизнь моя решается). Пруст идет к этому путем экзистенциального и рискового опыта. Он рискует собой в этом вопросе – потому что может оказаться, что меня и нет (а люди не любят задавать такие вопросы, ответом на которые может оказаться, что тебя и нет; они избегают этого). Толчком к этому ходу утверждения человеческих состояний и произведений искусства в еще каком-то дополнительном измерении была проблема, тоже экзистенциальная, но этическая, проблема авторства поступков или авторства состояний. Мы часто говорим так: человек сделал то-то, потому что он злой, потому что он глупый и т д. Опять те же самые предметные картины. Пруст в своей жизни глубоко ощутил, сталкиваясь с другими людьми, что так не бывает: вот есть мир, в котором что-то происходит, а есть другой мир, второе измерение нашего сознания, в котором мы устанавливаем происходящее в первом измерении. Если устанавливаем – умные, не устанавливаем – глупые. Люди не добры и не злы в этих измерениях; чтобы понять, что они делают, нужно рассуждать не в терминах анализируемых качеств, а в терминах объемов и истории. Люди двигались в мире, и в этом движении лежит нечто, что объясняет, почему они так поняли или не поняли, и почему они так поступили или не поступили. Простой фразой обозначу нашу проблему: представьте себе все, что я говорил о так называемых непсихологических ситуациях, – в них ведь люди живут, и они что-то делают; и любой внешний наблюдатель склонен делаемое людьми проанализировать, сведя его к проявлению каких-то качеств этих людей. Но я сказал вам, что мы не хуже и не лучше других, не злее и не глупее. В этом натуральном смысле слова – в предметной картинке. И проблема, с которой я начал, тоже лежит в другом измерении, то есть не в двух, а в трех измерениях лежит, а добавление третьего измерения и означает, что я должен увидеть – за тем, что мне казалось качеством, – какое-то наращенное динамическое содержание. Содержание опыта, проделанного или непроделанного, содержание мускулов, наращенных или ненаращенных. Ведь я говорил вам неоднократно, что мысль в каком-то смысле – мускульное явление. Ведь я перед вами – ходячий парадокс: я должен одновременно казаться вам крайним спиритуалистом, то есть идеалистом по вашим классификациям из учебников, и крайним материалистом, потому что я говорю иногда нечто подобное тому, что мысль есть нечто такое, что выделяется… как желчь выделяется печенью. Если вы сможете совместить это противоречие, тогда вы поймете ту проблему, над которой мы ломаем голову. Понимаете, такая вещь… этот стул ребенок не поднимет, нет мускулов. Мысли тоже таковы – чтобы поднять мысль, нужны мускулы. Поднять нравственный поступок – тоже нужны мускулы.
В реальности происходят только онтологически обоснованные события, а не чувства-поползновения полусуществ. Ведь то, что я назвал «полусуществами», «полуумами», – это все, что – вне онтологии, или – вне реальности, или – вне бытия. А Прусту очень хотелось бы быть в бытии; ему недостаточно было сказать, что Шарлю порочен, и поэтому то-то и то-то; ему казалась такая вещь глупостью. И действительно, то, что происходит с Шарлю… – не потому, что у него есть такие-то свойства и качества, а потому, что он двигался (определенным образом) в мире, вмещал этот мир в себя путем риска, и на каких-то путях… – а раз были пути, значит, могут быть и отклонения. И вот интереснее всего понять то, что кажется отклонением, из факта существования пути. Тогда он осмыслен и сохраняет всех внутри человечества, потому что Шарлю – человек и по своим измерениям (у Пруста, во всяком случае) почти что эпическая фигура, которую не вместишь в узкие рамки добра и зла. Но дело в том, что мы все тоже таковы, – в том полушарии анархии, о котором я вам говорил, небольшая заминка, battement анархии предшествует любому миру упорядоченности, в котором мы были бы полноправными участниками этой упорядоченности. Вот откуда идет эта, казалось бы, абстрактная проблема дополнительного измерения у Пруста. Значит, измерение означает, что событие происходит одновременно и в измерении смысла и понимания, а не просто во внешнем физическом мире. И чтобы нам связаться с этим событием – как оно произошло и что именно произошло (в том числе, если это событие с нами происходит, а не с другими), – нам нужен текст, нам нужно построить свое понимание. Нам недостаточно тянуться к тому, что мы хотим понимать, – голым рассудочным актом, голой мыслью мы ни до чего не дотягиваемся – только через структуру. Но ясно, что если построить структуру, то эта структура, конечно, дана в нескольких измерениях – не в двух, а в трех, и там или с учетом этого измерения наша душа и произведение имеют реальность. И в том числе – индивидуальность.