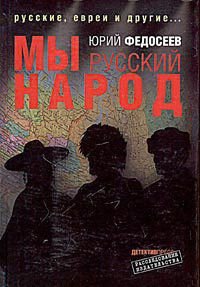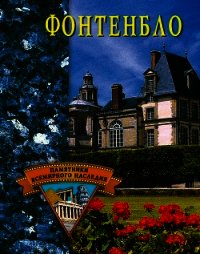Народ - Мишле Жюль (книга бесплатный формат txt) 📗
Надо не отворачиваться, а побывать на фабрике в рабочие часы. Тогда станет понятным, что после долгих часов молчания и вынужденной скованности движений все эти крики, шум, резкие жесты при выходе из фабрики нужны для разрядки, для восстановления душевного равновесия. Особенно это относится к огромным прядильным и ткацким фабрикам, настоящим застенкам, где пытают тоской. «Гони, гони, гони!» – этим беспрерывно повторяемым словом отдается в ушах грохот машин, от которого дрожит пол. Привыкнуть невозможно: и через двадцать лет этот грохот так же оглушает, так же отупляет, как и в первый день. Бьются ли сердца в груди этих рабов машин? Еле-еле, словно вот-вот остановятся… Зато в течение всего длинного рабочего дня бьется другое, общее для всех сердце, металлическое, равнодушное, безжалостное; оглушающее мерное грохотание есть не что иное, как биение этого сердца.
Труд ткача-одиночки не был так тяжел. Почему? Потому что он мог во время работы мечтать. Машина же не позволяет ни мечтать, ни отвлекаться. Вам захотелось на минутку замедлить ее движения, чтобы наверстать потом, но это невозможно. Лишь только неутомимый стошпулечный станок пущен, от него нельзя отойти ни на секунду. Ткач на ручном станке ткет то быстро, то медленно, в зависимости от ритма своего дыхания; темп его движений соответствует темпу деятельности организма; работу приноравливают к человеку. На фабрике же, наоборот, человек должен приноравливаться к работе. Живые существа, которые по-разному чувствуют себя в разное время суток, подчиняются бездушной машине, совершающей всегда одно и то же число оборотов.
При ручной работе, выполняемой произвольным темпом, труд более сознателен, более осмыслен; движения инструмента не только не препятствуют течению мыслей, но, наоборот, способствуют ему. Недаром средневековые ткачи-сектанты получили прозвище «лоллардов»: во время работы они вполголоса или про себя напевали колыбельную песенку. [103] Ритмично толкаемый челнок двигался в унисон с мелодией, и вечером порою оказывалось готово не только полотно, но и какая-нибудь жалобная песенка, в которой бывало столько же слогов, сколько нитей в основе.
Какая резкая перемена ждет того, кто вынужден прекратить работу дома и поступить на фабрику! Хоть жилье его убого, хоть старинная мебель источена червями, но он любит свой уголок, ему тяжело расставаться с ним, а еще тяжелее то, что он уже не хозяин сам себе. Обширные, выбеленные, хорошо освещенные цехи раздражают глаза, привыкшие к полумраку тесной каморки. Здесь нет темных углов, дающих столько пищи воображению, столько простора мыслям; яркий свет рассеивает все иллюзии, все время напоминает о безотрадной действительности… Немудрено, что руанские ткачи, [104] как и французские ткачи в Лондоне, столь решительно, с таким мужественным упорством противились введению машин, предпочитая голодать и умирать, но умирать у себя дома. Мы видели собственными глазами, как долго боролись слабые человеческие руки, обессиленные постоянным недоеданием, с безжалостными, тысячерукими Бриареями [105] промышленности, которые приводятся в движение паром и работают круглые сутки с чудовищной производительностью… При каждом усовершенствовании ткацкого станка его злосчастный соперник еще больше удлинял свой рабочий день, еще больше урезывал расходы на пищу. Мало-помалу колония наших ткачей в Лондоне сошла на нет. Бедные люди, устоявшие против соблазнов большого города! Их честность, их суровое и добродетельное существование достойны восхищения. В своем прокопченном Спитальфилде [106] они сажали цветы; любоваться их розами приходили даже из других районов Лондона.
Я упомянул о средневековых фландрских ткачах-лоллардах, или беггардах, как их еще называли. Церковь, преследовавшая их как еретиков, ставила в вину этим мечтателям лишь одно: любовь, чрезмерно пылкую и экзальтированную любовь к невидимому божеству. Подчас эта любовь принимала и плотскую форму, без которой не обойтись в многолюдных промышленных центрах, но даже будучи плотской, эта любовь оставалась мистической. Они считали себя «братьями общей жизни», которая приведет к райскому блаженству уже здесь, на земле.
Эта склонность к чувственности присуща и современным сектантам, утратившим, однако, те поэтические мечтания, которыми отличались их предшественники. Один английский пуританин, описывая в наши дни безоблачно счастливую, по его мнению, жизнь фабричных рабочих, признается, что «плотские вожделения у них весьма сильны», «их плоть бунтует». Это объясняется не только тем, что мужчины и женщины работают рядом, или жарой в цехах, но и причинами другого порядка. Именно потому, что фабрика – мир железа, где всюду наталкиваешься на холодный и жесткий металл, рабочему особенно хочется женской близости в редкие свободные минуты. Машинное производство – это царство необходимости, неизбежности; из человеческих чувств здесь можно встретить лишь суровость мастера, здесь часто наказывают и никогда не вознаграждают. Рабочий на фабрике настолько мало чувствует себя человеком, что, выйдя за ее ворота, жадно стремится испытать самое сильное возбуждение, какое ему доступно, чтобы хоть на короткий миг ощутить чувство полной свободы. Такие минуты дает опьянение, особенно опьянение любовью.
К несчастью, гнетущая монотонность труда, от которой этим пленникам фабрик некуда деваться, делает их непостоянными в личной жизни, они ищут разнообразия, перемен. Любовь то к одной, то к другой женщине – уже не любовь, а распущенность. Лекарство, которым лечат недуг, оказывается хуже самого недуга: изможденные кабальным трудом, рабочие истощают себя еще больше, злоупотребляя своим досугом.
Итак, физическая слабость, моральная неустойчивость… Все это приводит к чувству собственного бессилия – большой беде для этого класса. Они бессильны перед машиной и вынуждены следовать всем ее движениям; бессильны перед владельцем фабрики, бессильны перед множеством неизвестных им факторов, могущих в любой момент лишить их работы и хлеба. Прежние ткачи хотя и не были рабами машин, как нынешние, однако тоже признавали свое бессилие и проповедывали покорность. Их символ веры гласил: «Все в руцех божьих, а не человеческих». Недаром этот класс при первом своем появлении в средневековой Италии носил имя «Humiliati». [107] Правильное название! [108]
Наши рабочие не так безропотны. Потомки воителей, они хотят стать полноценными людьми и прилагают непрерывные усилия, чтобы подняться. По мере возможности они ищут мнимую бодрость в вине. Много ли им надо, чтобы опьянеть? Побывайте, преодолев отвращение, в кабаках вы увидите что здоровый мужчина, пьющий неразбавленное вино, может выпить его много без каких-либо неприятных последствий. Но рабочий пьет вино далеко не каждый день, он приходит в трактир прямо с фабрики, измученный, издерганный, он пьет бурду с примесью спирта (хоть эта бурда именуется вином), и опьянение неизбежно.
Вечная материальная зависимость; диктуемые инстинктом потребности, ввергающие в еще большую зависимость; моральная неустойчивость, душевная опустошенность – вот где корни их пороков. Не ищите же, как принято їв наши дни, чисто внешних причин, вроде, например, скопления множества людей (в одном месте. Неужели природой заложено в человеке столько недостатков, что люди портятся, лишь только соберутся вкупе?
Но наши филантропы считают, что вся беда именно в этом, стараются отделить людей друг от друга, изолировать их, и думают, что излечить или предупредить порок можно, только заточив людей в склепы.
Сами по себе эти люди вовсе не плохи. Большей частью их приводят к порокам тяжелые условия жизни; порабощение механизмами, режим работы которых непосилен для живых существ, убийственно на них действует и пробуждает в них стремление к разрядке в редкие свободные часы. В этом, поистине, есть роковая неизбежность. Особенно страдают от нее женщины и дети Женщин жалеют меньше, хотя именно они, быть может, больше всех заслуживают сострадания. Они в двойной кабале рабыни машин, они получают столь жалкую плату за свой труд, что им приходится торговать своей молодостью, своим телом. Что с ними будет, когда они состарятся? Законы природы таковы, что женщина не может выжить если мужчина не станет ей помогать.