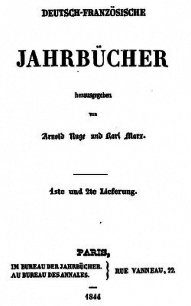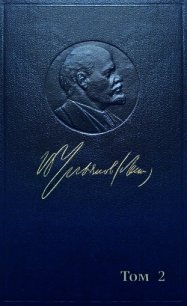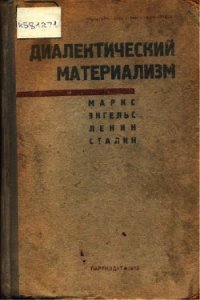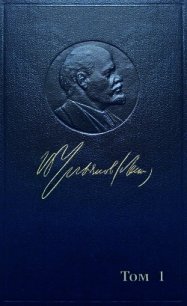Собрание сочинений. Том 1 - Энгельс Фридрих (лучшие книги .txt) 📗
Должность цензора, далее, должна быть поручена лицам, «вполне соответствующим тому почётному доверию, какое эта должность предполагает». Незачем подробнее разбирать это плеонастическое, мнимое определение, подчёркивающее необходимость выбирать на такую должность людей, которым оказывают доверие, считая, что они вполне соответствуют (будут соответствовать?) тому почётному доверию, — и притом полному доверию, — которое им оказывают.
Наконец, цензоры должны быть такими людьми, «которые, будучи в одно и то же время благонамеренными и проницательными, умели бы отличать форму от сущности дела и с уверенным тактом отбрасывать сомнения в тех случаях, когда смысл и тенденция сочинения не оправдывают сами по себе этих сомнений». Напротив, несколько выше инструкция предписывает:
«В соответствии с этим» (т. е. с исследованием тенденции) «цензоры должны также обращать особенное внимание на форму и на тон предназначаемых для печати сочинений и не разрешать их печатание, если вследствие страстности, резкости и претенциозности их тенденция является вредной».
Таким образом, цензор должен то судить о тенденции по форме, то о форме по тенденции. Если прежде совершенно исчезало содержание как критерий для цензуры, то теперь исчезает и форма. Была бы только тенденция хороша, а погрешности формы никакого-де значения не имеют. Пусть сочинение и не отличается ни особенной скромностью, ни особенной серьёзностью, пусть кажется оно полным резкости, страстности и претенциозности, — кто станет пугаться шероховатой внешней стороны? Нужно же уметь отличать форму от сущности. Так, в результате была отброшена всякая видимость определения, и инструкция не могла кончить ничем другим, как полным противоречием самой себе; — ибо всё то, из чего тенденция должна быть ещё только выведена, здесь, наоборот, определяется только посредством этой самой тенденции и само должно быть выведено из неё. Резкость патриота есть святое рвение; его страстность — это пылкость любви; его претенциозность — это доходящая до самопожертвования преданность, слишком безмерная, чтобы быть умеренной.
Все объективные нормы отпадают; всё сводится к личному отношению, и гарантией остаётся только такт цензора. Что же цензор может нарушить? Такт. А бестактность — не преступление. Что ставится под угрозу на стороне писателя? Его существование. Какое государство когда-либо ставило существование целых классов людей в зависимость от такта отдельных чиновников?
Ещё раз повторяю: все объективные нормы отпадают. Если, посмотреть со стороны писателя, то тенденция является последним, требуемым от него и предписываемым ему, содержанием; тенденция, в виде бесформенного мнения, выступает здесь в качестве объекта. В качестве же субъекта, как мнение о мнении, тенденция сводится к такту цензора и является для последнего единственной нормой.
Но если произвол цензора, — а право на безоговорочное мнение есть право на произвол, — есть логический вывод из инструкции, тщательно скрываемый ею под маской объективных определений, то эта же инструкция, наоборот, с полным сознанием выражает произвол обер-президиума, которому без дальнейших околичностей оказывается полное доверие, и это оказанное обер-президенту доверие есть последняя гарантия прессы. Сущность цензуры вообще, таким образом, основана на высокомерном фантастическом представлении полицейского государства о его чиновниках. Ум и добрая воля общества признаются неспособными даже на самые простые вещи, зато по отношению к чиновникам даже невозможное признаётся возможным.
Этот коренной порок проходит через все наши учреждения. Так, например, в уголовном процессе судья, обвинитель и защитник соединены в одном лице. Это соединение противоречит всем законам психологии. Но чиновник стоит-де выше законов психологии, а общество, наоборот, — ниже их. Однако неудовлетворительный государственный принцип ещё можно было бы простить; но он становится непростительным, когда он недостаточно честен, чтобы быть последовательным. Ответственность чиновников должна была бы быть настолько несоизмеримо выше ответственности общества, насколько чиновники ставятся инструкцией выше общества; и вот как раз здесь, где одна только последовательность может оправдать принцип, дать ему правовое обоснование в пределах его сферы, именно здесь от него отказываются, именно здесь применяется прямо противоположный принцип.
Цензор также является обвинителем, защитником и судьёй в одном и том же лице. Цензору доверено управление умами; он безответственен.
Цензура могла бы иметь только временно-лойяльный характер, если бы она была подчинена обыкновенным судам, что, правда, невозможно до тех пор, пока нет объективных законов о цензуре. Но самое худшее средство — это отдать цензуру на суд цензуре же, отдать её на суд какому-нибудь обер-президенту или высшей цензурной коллегии.
Всё, что мы говорили об отношении прессы к цензуре, распространяется также и на отношение цензуры к высшей цензуре и на отношение писателя к главному цензору, хотя здесь и появляется промежуточное звено. Это то же отношение, но только на более высокой ступени. Поразительное заблуждение, — оставляя неизменным порядок вещей, пытаться дать ему другую сущность путём простой смены лиц. Если бы деспотическое государство захотело быть лойяльным, то оно уничтожило бы само себя. Каждая точка подвергалась бы одинаковому принуждению и оказывала бы одинаковое противодействие. Высшая цензура должна была бы, в свою очередь, подвергнуться цензуре. Чтобы избежать этого порочного круга, решаются быть нелойяльными, и вот на третьей или девяносто девятой ступени открывается простор для беззакония. Но бюрократическое государство, которое всё же смутно сознаёт это отношение, старается, по крайней мере, так высоко поставить сферу беззакония, чтобы оно скрылось из виду, и думает тогда, что беззаконие исчезло.
Действительным, радикальным излечением цензуры было бы её уничтожение, ибо негодным является само это учреждение, а ведь учреждения более могущественны, чем люди. Наше мнение может быть верным или нет, но, во всяком случае, благодаря новой инструкции прусские писатели приобретают больше либо действительной свободы, либо идеальной, т. е. больше сознания.
Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et quae sentias dicere licet{7}.
Написано К. Марксом между 15 января и 10 февраля 1842 г.
Печатается по тексту сборника
Перевод с немецкого
Напечатано в сборнике «Anekdota zur neuesten deutschen Philosophic und Publicistik» Bd. I, 1843 г.
Подпись: Житель Рейнской провинции
ЛЮТЕР КАК ТРЕТЕЙСКИЙ СУДЬЯ МЕЖДУ ШТРАУСОМ И ФЕЙЕРБАХОМ
Штраус и Фейербах! Кто из них прав в недавно поднятом вопросе о понятии чуда?[8] Штраус, который рассматривает вопрос как теолог, а следовательно предвзято, или же Фейербах, который рассматривает его как не-теолог, следовательно свободно? Штраус, который видит вещи такими, какими они представляются в глазах спекулятивной теологии, или же Фейербах, который их видит такими, каковы они на самом деле? Штраус, который так и не высказывает окончательного суждения о том, что есть чудо, и вдобавок предполагает, что за чудом стоит ещё особая духовная сила, отличная от желания (как будто желание не есть эта самая, предполагаемая им сила духа или человека; как будто, например, желание быть свободным не является первым актом свободы), или же Фейербах, который без всяких обиняков говорит: чудо есть реализация естественного, т. е. человеческого, желания сверхъестественным способом? Кто из них прав? Лютер, — весьма солидный авторитет, бесконечно превосходящий всех протестантских догматиков, вместе взятых, ибо религия была для него непосредственной истиной, так сказать природой, — Лютер пусть решит, кто из них прав.
Лютер говорит, например, — ибо можно было бы привести из его сочинений бесчисленное множество аналогичных мест, — по поводу воскрешения мёртвых в евангелии от Луки (гл. 7):