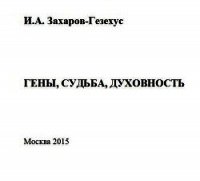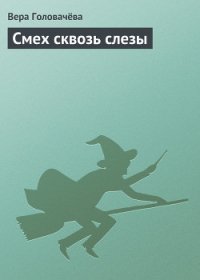Слёзы мира и еврейская духовность (философская месса) - Грузман Генрих Густавович (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Данная типизация имеет глубокую духовную основу, а внешне она выражается в характере опосредования идеи революции, — в одном случае эта идея осваивается посредством императивов внутреннего действия, замешанных на типично еврейском мессианском духе, а в другом — она воспринята как повеление внешней воли. Если в первом случае эмунизация идеи революции, — что вовсе не идентична «революционной идее», отсутствующей в революционном мышлении, — привносит в эту разрушительною стихию идеальный элемент созидательного предназначения и мессианского исполнения (во имя «светлого будущего»), что облагораживает идею революции, которая, как следует подчеркнуть еще раз, евреям не принадлежит и они не несут за нее ответа, то во втором случав, когда подчинение внешней злой силе (а революция в реальности плодит всегда злые силы, впротивовес своим идеальным мечтаниям) вынуждает еврея отказаться от своего имманентного ядра, своего внутреннего достояния, а в итоге выступает вина еврея. И эта вина еврея приобретает тем более зловещий вид, что она состоит в добровольном предательстве самого себя, в первую очередь, и всего еврейства, в целом. Жестокая вина за подобное революционное предательство своей сущности постигает еврея во внутренней полости и внутренний судия выставляется главным обвинителем каждой еврейской персоны революционного типа. Эмунизацня внутренней сферы еврея приводит к образованию особого революционного духа, противопоставленного революционному поведению, и в этом психологически окончательно разграничиваются два типа евреев в революции: творцов революционного духа и передовиков революционного производства. Великий психиатр и психолог Зигмунд Фрейд, следуя по стопам великого экономиста Карла Маркса, определили в себе черты революционного духа: «Будучи евреем, я был свободен от многих предвзятых мнений, которые сковывают мышление других людей. Будучи евреем, я был также предрасположен к оппозиции и отказу от согласия с единодушным большинством». Здесь в полной мере подчеркнута главная особенность еврейской эмунизированной особи: принуждение к культурному творчеству, ибо революционный дух в мышлении склоняется не только к революционной практике, но и к новаторскому созиданию, являясь сам по себе первым условием культурных шедевров. Можно даже сказать: еврей становится революционером на практике, когда перестает быть революционером в мысли.
А. И. Солженицын, говоря о вине евреев, не конкретизировал эту вину и как бы не отчленял ее от вины русского контингента, мысля здесь в режиме «вместе». Однако реальная вина евреев в русской революции огромна и не сопоставима ни с чем, как огромен и не сопоставим духовный арсенал еврейской натуры, который еврей-революционер меняет на пресловутый «катехизис революционера», как огромны и не сопоставимы ни с чем исторические муки и беды еврейского народа, которыми он выстрадал свое право на собственную историческую судьбу, а не обещанный революцией штрих в интернациональном «светлом будущем». Предательством самого себя (и еврейства) еврей-революционер этого типа показывает возможность пренебрежения в революции личностью человека как отдельной величиной, утверждает ничтожество личного достоинства перед громадой революционных догматов, и, наконец, вводит революционные порядки и нормы революционного мышления во внутриеврейские духовные ареалы и решение собственно еврейских задач, — такова, к примеру, концепция профессора Шломо Авинери «Сионизм как перманентная революция». Вина евреев в таком отношении значительна, ибо неискоренима, и измена самому себе непрерывно следится в русском еврействе, а правильнее, в той его части, что перешла в революционное состояние, начиная с Арона Зунделевича в XIX веке и кончая Лазарем Кагановичем в веке ХХ. В этой спрессованной шеренге борцов, а точнее сказать, рабов революционной химеры, наибольшим заблуждением является видеть революционеров другого типа, — евреев, околдованных эмуной и стремящихся, но не всегда достигающих цели, идеализировать революционный кругозор. В качестве примера можно сопоставить фигуру Дмитрия Богрова, — восторженного вьюноша, нежданно-негаданно для себя совершившего великое злодейство — лишившего жизни выдающегося государственного деятеля России П. А. Столыпина, — с романтической личностью идеолога Бунда Владимира Медема, пытавшегося внести в программу еврейской революционной деятельности пункт: «Мы не против национального характера нашей культуры, мы против националистической политики» (2002, с. 149). Нелли Портнова, склонная, по всей видимости, видеть Бунд организацией евреев-революционеров эмунизированного типа, пишет: «Самоотверженный и постоянно конфликтующий со всеми, прямолинейный, вечно преследуемый, претендующий на первородство, переживший все национальные партии, сохранявший в 20-е годы влияние на национальную политику большевиков (а в качестве странного реликтового явления существующий и до сих пор в США и Израиле) Бунд держался на отчаянности и преданности таких чистых романтиков, как Владимир Медем» (2002, с. 427). Н. Портнова права, ибо в русском еврействе не было другой общественной организации, какая сделала бы для еврейского самосознания в России больше, чем Бунд.
Следовательно, никакая революционная идея не соответствует коренному еврейскому интересу, однако, если верна мысль Н. А. Бердяева, что революция составляет необходимость русской истории, то становится неверным суждение З. Жаботинского, и евреи, хоть на вторых ролях, но принимают участие в русской истории, которая в таком случае перестает быть «чужой». Выступая на революционной арене действующим персонажем, еврей жертвует своей внутренней сердцевиной, ибо революционное напряжение деформирует до полного уничтожения имманентную духовную структуру еврея, дарованную ему исторической традицией и нетрадиционной историей. Итак, «революционность» еврея есть глубочайшее и беспредельно трагическое внутреннее переживание. И оно не может быть даже отдаленно сопоставлено с аналогичным состоянием русской души, ибо русская духовность включает в себя как коренное качество момент «разбойничества», некую потребность деструктивного слома окружающего. В русской истории данные «разбойники» (Крутояр, К. Болотников, Стенька Разин, Емелька Пугачев) имеют свое законное место как социальные мстители, тогда как в еврейской истории внешне подобные ратоборцы (Хасмонеи, Бар Кохба) есть исключительно духовные воители. Солженицын, порицая евреев за участие в русской революции, собственно, не имел права ставить такой вопрос, ибо ему, не-еврею, неведомы духовные страдания еврейской натуры в таком психологическом разрезе.
Наплыв евреев в русскую революцию был обусловлен, однако, не стремлением усилить реальную разрушительную мощь революции в российских условиях, а, напротив, желанием романтизировать и облагородить гримасу русского революционного потрясения, ибо они (евреи) чувствовали себя более способными по этой части, чем их русские со-общники. Но великая сумятица, захватившая еврейскую среду при наступлении революционной ситуации в России, воспрепятствовала появлению индивидуальной личности (еврейского пророка), какая могла бы раскрыть еврейский смысл этой ситуации и показать сугубо еврейскую роль в русской революции, а потому собственно еврейские импульсы были растоптаны грубым ходом стихийного деструктивизма революции. Реальное осознание этого обстоятельства случилось на русской стороне, — иначе ничем нельзя объяснить феномен русского общественного мнения в начале XX века, который не только не истолковывается академической историографией, но даже фактически не замечается ею в исторической действительности. Феномен, о котором идет речь, связан с организованным отпором русских духовных деятелей антисемитизму царских властей, когда они избрали русских евреев своими внутренними врагами. Этот феномен, в свою очередь, является первым практическим результатом русско-еврейской культурной сублимации, воплотившимся в русское общественное мнение,