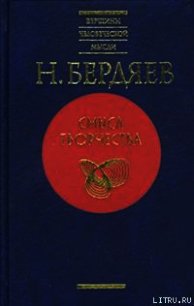Типы религиозной мысли в России - Бердяев Николай Александрович (читать книги онлайн регистрации txt) 📗
Мережковский бунтует против внешней, видимой, исторической Церкви, но не хочет идти и путем сокровенной, внутренней, мистической Церкви. Это делает его положение трагически бессильным. Он хочет создать новую Церковь и видит ее зачатки в "мы", в некоем человеческом соединении, человеческом коллективе, в общине, почувствовавшей откровение о святой общественности, святой плоти, о земной правде. Он жаждет новых таинств, старые таинства не удовлетворяют уже его. Временно он остается в положении беспоповцев. Здесь мы подходим к самому центральному в религиозном сознании Мережковского, к самому эзотерическому в нем. Религиозная воля Мережковского или того "мы", к которому он чувствует себя принадлежащим, направлена к откровению религиозной общественности как таинства, нового, неведомого старому христианству таинства, подобного таинству священства или {евхаристии. Религиозная общественность, богочеловеческое соединение есть как бы таинство всеобщего священства или, вернее, новое таинство третьего Завета, и в нем все таинства станут новыми, иными}. Религиозная общественность есть тайна трех в отличие от тайны двух - тайны брака, и тайны одного - тайны личности. Общественность, соединение людей есть троичность, и она раскрывается в религии Троицы. Мережковский, по-видимому, верит, что в мире свершился новый таинственный факт, новое откровение свершилось - явилась религиозная общественность, таинство общественности, общественное священство, новое богочеловечество. Все у него вращается вокруг этого основного факта. И постановка этой темы - единственное оригинальное в нем. Тема эта - не только его личная, не им выдуманная. За этим скрыто чувствование чего-то совершающегося в мире. И потому только и стоит говорить о Мережковском как о типе религиозной мысли. Литературное же обличье Мережковского и его общественные выступления скорее закрывают значительность этой темы, чем открывают ее. Слабость религиозно-общественной утопии Мережковского нужно видеть еще в полном отсутствии сознания связи проблемы общественной с проблемой космической. Он не ставит решения проблемы религиозной общественности в зависимость от космического общения, от космических энергий. Очень вредит Мережковскому и его делу его отрицательное иконоборчество, его отчужденность от непреходящего символического смысла исторического церковного культа. В жизни Церкви он видит лишь экзотерическое, тлеющие ее покровы, и не видит эзотерического, сокровенно пребывающего. Таинства нельзя создать, нельзя изобрести их. Это не может быть нашим человеческим делом. Можно только глубже постигнуть вечные таинства и сокровеннее приобщиться к ним. Мережковский же всегда находится на грани какой-то двусмысленной евхаристической игры. Многое в нем оставляет такое впечатление, что вот-вот он примет причастие из собственных рук. Он как будто бы не в том видит задачу религиозного творчества, в чем должно ее видеть. И потому третий Завет у него вступает в соревнование и конкуренцию с вторым Заветом, не исполняет его, а отменяет.
VI
Мережковский вступает на внешний, экзотерический путь к достижению того, что сокровенно, эзотерично, катакомбно. Он абсолютизирует относительное. Он все ищет опоры во внешнем, вне себя, вне глубины духовной жизни, все выбрасывает себя на поверхность. Он всегда смешивает разные плоскости и планы. Сначала пленялся Мережковский самодержавием, не без влияния хилиастической концепции В.А. Тернавцева. В самодержавии хотел он увидеть святую плоть, святую телесность. Потом бежал он от соблазнов мистики самодержавия, как от антихристова духа и пленился революцией[8]. Революционную общественность начал ощущать Мережковский, как святую плоть, святую телесность. Всегда нужно ему соединяться с внешней исторической силой, по существу своему относительной, но принятой им за абсолютную, всегда есть потребность опереться на что-то чуждое себе. Соединение это не может не быть механическим, все равно - будет ли то соединение с самодержавием или революцией, оно никогда не совершается у Мережковского изнутри, из глубины. В этих вечных исканиях опоры извне, в относительном, чувствуется недостаток веры в себя, в свою человеческую глубину, беспомощность и бессилие идти внутренним путем, из глубины творить новую религиозную жизнь. Религиозная общественность не явится в мире оттого, что мы будем соединять свое религиозное сознание с общественностью самодержавной или общественностью революционной. Мережковский слишком возлагается на то, что он даст революционной интеллигенции религию, а она даст ему общественность. Но так же, как ни от кого нельзя получить той религии, которой не имеешь в себе, ни от кого нельзя получить и той общественности, которой в себе не имеешь. Новая религиозная общественность, богочеловеческое общение в Духе незримо и неприметно приходит в мир. Эта религиозная общественность, это царство Божие непостижимо для мира. Мережковский как будто не хочет видеть того, что таинственное Христово общество каждая возрожденная, вторично рожденная личность человеческая найдет в сокровенной глубине, в плане духа, а не в плане матерьяльном, не в природно-историческом процессе. Он все еще продолжает искать абсолютного в относительном, священного в материальном, в природно-историческом. Он не хочет понять, что в плане природно-историческом, который есть периферия бытия, возможно лишь относительное и среднее, а не абсолютное и конечное, возможна лишь эволюция, а не религиозная катастрофа. Царство Божие недостижимо во внешнем, относительном мире - оно есть преодоление этого мира, выход из него, совершенное преображение. В материальном природном и историческом мире даны лишь символы духа, а не реальности. Внешняя общественность в истории должна быть секуляризована, свободна от трансцендентных религиозных санкций, должна быть средне-относительной, эволюционирующей. Это будет освобождением духа, началом имманентного религиозного освящения общественности. В исторически-телесном не может быть священного в трансцендентном смысле слова. Мистерия христианства должна быть перенесена внутрь, вглубь, ее нельзя принимать лишь объективно-предметно. Мережковский в конце концов приходит к новому религиозному рабству. Он ищет всякой реальности в "мы", потому что лишен сильного чувства реальности "я", сознания собственной существенности [и онтологичности.] Он все хочет получить от религиозной общественности и ничего не несет в нее из глубины человека, личности, "я".
Таинственное, сокровенное отношение личности человеческой и религиозной общественности погружено в совершенную свободу, в неизъяснимую глубь духа, где снимаются все противоположности. Мережковский же авторитетно подчиняет личность религиозной общественности, дух - откровению исторической плоти. В соборном "мы" Мережковского нет человека, творческая природа человеческой личности угашается. Булгаков боится человека по-старому, Мережковский боится его по-новому. В нем есть страшная зыбкость новой, новейшей человеческой души, убегающей от своего декаданса, пытающейся укрыться в соборности от своего человеческого краха. Но религиозная общественность может быть лишь внутренним, а не внешним фактом, она - в подземном, а не в надземном слое. И напрасно Мережковский в поисках ее мечется между общественностью самодержавной и общественностью революционной. Не по плоскости, а по вертикали нужно искать ее. Историческая церковность, историческая государственность, историческая революционность - лишь символическая объективизация того, что происходит в глубине. И в творчестве новой религиозной жизни идти нужно всегда из глубины через себя, а не через самую высокую данность, полученную извне. Мережковский, как и Булгаков, - материалист-трансцендентист. Новая святая плоть Мережковского так же авторитетна, материалистически-трансцендентна, как и старая святая плоть Булгакова. Булгаков ищет религиозного центра у старцев, в недрах православной Церкви, как объективной данности, в истинно-православной народной жизни. Мережковский ищет религиозный центр в нарождающейся религиозной общественности, как объективной данности, [в русской революционной интеллигенции, в революционно-религиозной народной жизни.] Религиозно-общественную активность Мережковский хочет получить со стороны, от других. Он провозглашает религиозно-общественную энергию, которой не имеет. Также и Булгаков провозглашает мудрость старцев, которая не есть его мудрость. Но то, что вызывает во мне религиозное поклонение и благоговение и что не мое, чем я не обладаю, что не из глубины моей добыто, есть авторитет для меня. Нашей религиозной мысли не хватает самостоятельности и твердости нравственного характера, настоящей автономии духа. Слишком велика зависимость от навязанных оценок. Слишком много упадочного и отраженного эстетизма в этих оценках. Разительный пример такого недостатка нравственного характера являет собой отношение Мережковского к левой русской интеллигенции. Он не жил с этой интеллигенцией и не знает ее изнутри. [Он поклоняется ей извне и ставит себя в зависимость от ее традиционных оценок. Он возвращается к старому интеллигентскому типу и хотел бы быть Чернышевским на религиозный лад.] (Так же не свободно его непримиримое отношение к русской революции.) Он восстанавливает старые приемы публицистической критики и забывает свою собственную борьбу за свободу духа и за независимые ценности культуры. Мережковский слишком спасается от своего собственного декадентства, и это делает его несвободным. Но самой интеллигенции он остается чужд и не может помочь ей выйти из кризиса. [Он никогда не привьет интеллигенции своего религиозного сознания, потому что слишком зависит от ее спасающей революционно-общественной активности, вызывающей в нем чувство поклонения со стороны.] Влияет лишь тот, кто несет свою правду из глубины и кто свободен. И Мережковский унижается до демагогических приемов, отрекается от своего аристократизма. Также и Булгаков бессилен повлиять на консервативные церковные круги, так как слишком зависит от них в своих оценках. Очень характерный пример несвободы оценок Мережковского я вижу в его отношении к Л. Толстому, которого он никогда не понимал до конца и не ценил по-настоящему. С внешне-утилитарной точки зрения ему нужно было резко-отрицательно отнестись к Толстому и беспощадно критиковать его, когда он был увлечен мистикой самодержавия и исторической церковности, а потом понадобилось без меры восхвалять его и сделать его святым Львом, когда сам увлекся мистикой революции и религиозной правдой интеллигенции. Но сам Толстой с своей великой правдой изобличения лжи всего зримого и внешне-воплощенного остался в стороне.