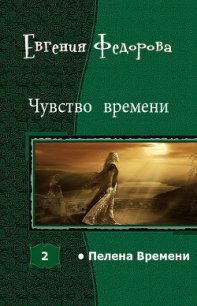Психологическая топология пути - Мамардашвили Мераб Константинович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Значит, – я немножко перебил самого себя, – я связываю ту тему, которую сейчас ввел, с тем, что говорил раньше, а именно: «нечто само» может быть только невозможным. Вообще парадокс, что существует в реальности только невозможное. А в том, что мы называем реальностью, на самом деле все обстоит не так, как кажется. У Еврипида есть хорошая очень строка: «Не сбывается то, что ты верным считал, и к нежданному боги находят пути» [414]. Так вот, то, что я теперь называю «само», то, что само есть, – оно и работает само, вне наших связей. Вот это «само» есть то, что я раньше называл «невозможное». Помните, я говорил о мужестве невозможного. Частично это связано с самим определением того, что я называл «чистыми явлениями», такими, как воля, вера. Вера ведь по определению есть вера в то, чего не существует помимо веры и в этом смысле не нуждается (для того, чтобы существовать) в моей вере, – к этому вообще термин «вера» бессмысленно применять. Опять случай онтологии нашего сознания, которое диктует то, как вообще осмысленно мы можем оперировать терминами, относящимися к нашей сознательной жизни. Например, писатель пишет – и по смыслу того, что я говорил в связи с Прустом, приводя разные проблемы, в том числе и несколько раз обыграв капризность Пруста, который все время говорит о своей лени, что ему лень было бы, не было бы живой искорки, чтобы двигать рукой (это труд все-таки физический) по бумаге; если бы не те вопросы жизни или смерти, которые действительно возникают в акте писания… но, когда я приводил эти примеры, я не сказал, что акт письма бессмысленен, если то, о чем пишешь, не зависит от того, что ты об этом пишешь. То есть писать можно и имеет смысл только о том, что существует только в силу этого акта писания и нуждается в этом акте писания. Я ведь говорил вам о произведениях, которые внутри себя рождают какие-то эффекты нашего сознания. Сейчас можно более широко сказать, что сам акт письма имеет смысл, лишь если то, о чем пишется, рождается и держится на самом акте письма, и чего не было бы без выполнения письменного текста или просто текста (вообще-то всякий акт – письменный, хотя «письменья» могут быть не обязательно буквами). Я возвращаюсь к тому, о чем говорил в связи с возможностью и невозможностью. Невозможное есть то, что никогда не фигурирует в реестре логических возможностей наших представлений, которые всегда проецированы в будущее. Например, по воде ходить нельзя – это мы знаем. И, наоборот, следовательно, символ хождения по воде, а он, конечно, есть символ, – однажды Будда своему ученику, который не понимал символического характера некоторых описаний нашей жизни и хотел научиться йогическим упражнениям и ходить по воде просто так, сказал, мол, слушай, не выпендривайся, ради бога, – вот этот символ говорит нам о том, что реально существующее или происходящее и есть то, что мы назвали бы, во-первых, невозможным, и, во-вторых, именно невозможное требует веры, – и тогда осмысленно верить, потому что вера есть творение того, во что веришь, – то есть то, во что веришь, не случилось бы, если бы ты не верил. А то, что случается без веры, не нуждается в нашей вере, и там бессмысленно вообще этот термин применять. Эту веру Пруст называет экспериментальной верой. Значит, сначала есть – помните, я говорил вам – детская вера, где ребенок верит в уникальную индивидуальность того, что он видит, воспринимает, чувствует. Потому, как говорит Пруст, что реальность памяти складывается, или потому, что иссякает юношеская сила веры, все вещи становятся похожими друг на друга и теряют индивидуальность, и вот в качестве замены того, что потеряно, – юношеская вера потеряна, рай потерян, – Пруст свою процедуру называет экспериментальной верой. Вера – в смысле – экспериментировать на каких-то своих особых, невозможных условиях истину, чувство и т д., а не получать все это в готовом виде извне, – это очень важный пункт. И неполучание в готовом виде извне и есть самая серьезная нить, которая пронизывает всю тему реальности у Пруста, – как реальности самой действительности, как реальности произведения, так и реальности нашей души. И вот то, что я называю невозможным, есть, во-первых, нечто само, во-вторых, лишь после того, как оно есть само, мы можем говорить о возможностях, о причинах, о мирах (например, о мире Гамлета, связывать Гамлета с его миром и т д.), и в-третьих, это «само» я теперь назову другим словом – разум.
Пруст говорил, что над нашим рассудком есть – как бесконечное чувствование – разум. Видите, уже само словоупотребление «разума», поскольку я ввел его в связи с чем-то, что я назвал «само», «невозможное», что я охарактеризовал как стоящее вне наших категориальных связей, говорит о том, что слово «разум» я сейчас употребляю, конечно, не в смысле психической, или психологической, или логической способности существа, называемого человеком. Что-то другое говорится и философами, и художниками, когда они в таком контексте и так употребляют слово или термин «разум». Разум есть факт разума – не что-то в нашем сознании о факте, не что-то, содержащееся в нашем разуме или в нашем сознании, или в нашем уме как отражение вещей в мире, а вот нечто, что само есть факт и в качестве факта является разумной реальностью. Сейчас я поясню это так: я сказал, что «само» или «невозможное» есть таковое, то есть его нужно называть именно так, поскольку мы не можем получить откуда-то (аналитически) саму возможность этого. Мы не можем – оно лишь само может быть, а потом мы можем рассуждать. Это легко переводимо на характеристики разума в том бытийном смысле (а не в психологическом), в каком я это слово вслед за Прустом употребляю. Значит, нечто, что аналитически (предварительно) ни в чем другом не содержится. Скажем так: мы наблюдаем зрелище какой-нибудь несправедливости, и мы всегда – поскольку мы уже развитые существа, уже ставшие сознательными существа, а все наше становление ушло в глубину, и мы пользуемся уже его плодами, не видя всего того фундамента, на котором мы выросли, – как бы считаем, что мы нашими разумными способностями устанавливаем свойства предметов. Например, мы видим, что есть несправедливый или злой, или некрасивый предмет, и этого нам бывает достаточно. Но в действительности это совсем не так. Картина несправедливости, картина того, что мы называем несправедливостью, аналитически не содержит в себе того, что она несправедлива, или зла, или красива. Нет причин считать нечто несправедливым, если уже нет разума, – но пока у нас его нет. Посудите сами… животное поедает другое животное – в описании этой картины насилия не содержится и не может быть никакой оценки этого события. Так же, как нет причины, говорил Пруст, вообще быть вежливым или добрым по отношению к другому человеку. То есть в самом натуральном содержании этих акций (в их сцеплении, в их последовательности) не содержится никакой причины быть даже просто вежливым. Почему, скажем, говорит Пруст, люди вообще бывают вежливыми друг с другом, или почему музыкант, не верящий в бессмертие, тысячу раз переделывает один и тот же музыкальный кусок, доводя его до совершенства? [415]. Какие на это есть причины? В самом содержании происходящего таких причин нет. Они есть только тогда, когда есть сознательное существо, или cogito, выражаясь по Декарту, которое преследует свои цели, и когда оно есть везде. То есть если мы предположим, что разум уже есть и он есть везде, где есть предметы нашей оценки, тогда мы осмысленно можем говорить, что эти предметы несправедливы, беззаконны, ужасны и т д. Иначе говоря, разум сам по себе есть нечто – хотя мы в терминах разума анализируем что-то другое – простое и неанализируемое. Если бы оно анализировалось, его можно было бы получить аналитически: сначала вывести откуда-то его возможность и – предугадать его, предсказать, предположить. Но разум есть нечто, что нельзя получить предположением, – он может лишь сам быть или не быть.
Поверну примеры, которые я приводил раньше, другой стороной и, может быть, легче нам будет понять то, что я сейчас говорю. Я уже сказал, что проблема памяти у Пруста есть проблема памяти как чего-то, что находится вне наших связей, и продуктивно оно именно потому, что, находясь вне наших связей, какие бы мы связи на него ни наложили, то есть как бы мы ни интерпретировали, как бы ни поняли, как бы ни связали, оно работает само, продолжает работать (независимо от наших категорий) в нас. Скажем, какое-то событие, мною пережитое, ушло, сцепилось с образом моря, море сцепилось с девушкой, я преследую девушку, преследую море, но то, что не есть ни мое представление о море, ни мое представление о девушке, ни связь между ними (которая есть связь развития моих любовных отношений, и даже моя судьба, сейчас я поясню, почему так), – не будучи ни тем, ни другим, ни третьим, работает, и именно оно работает. Нечто, что не было никогда настоящим – не свершилось, – потому что море не есть свершение какого-то другого переживания, которое лишь укуталось в море, как в кокон, или укуталось в другой кокон – в девушку, связано теперь с морем. Так вот, не только в этом смысле – память… – то, что есть вне наших связей, то есть вне нашей психической памяти. Таким образом, проблема памяти у Пруста есть различие памяти сознания и памяти психики. То, что я называю разумом или памятью, стоящими вне наших связей, это есть память-сознание, некоторое сознательное, неэмпирическое бытие. И эта же память, будучи связана с проблемой времени у Пруста (если счесть, что память связана со временем) делает время проблематичным в том смысле, что Прусту везде приходится говорить о некоем чистом времени. Что называется чистым временем? – и вот я опять возвращаюсь к тому, что – вне связи. Там будет эта же мысль, которую я выражаю так: «вне связи», но будут и другие слова, и вы должны будете узнать одно в другом. Чистое время – вне причин и вне наших ощущений. Значит, мы держим в голове уже следующий шаг некоего бесконечного разума, в данном случае называемого временем или памятью, и причем – временем чистым, вне причин и ощущений. У Пруста есть несколько сцен, где повторяется почти один и тот же эпизод духовной жизни, который условно можно назвать темой духовных пейзажей, – не реальных воспоминаний, а воспоминаний, ставших духовным пейзажем, – например, воспоминание о Бальбеке в амальгаме с другими воспоминаниями. Реальный Бальбек вспоминается Марселем в яблоневой ветке, которую он покупает у цветочницы в Париже. И, конечно, воскресший в яблоневой ветке, вспоминаемый Бальбек не есть реальный Бальбек, а есть некоторый духовный Бальбек, его духовный пейзаж. Пруст пользуется такого рода вещами для того, чтобы проиллюстрировать законы нашей жизни, в смысле – что мы помним, почему мы помним, почему мы волнуемся, почему мы не волнуемся, что нас может волновать, что не может волновать, что может быть источником наших восприятий, а что не может быть источником наших восприятий. Дело в том, что, повторяю, Пруст пользовался все время чем-то вроде принципа относительности: не мир является источником – источников, в абсолютном смысле, наших чувств, волнений не существует, – нечто должно становиться источником, и следовательно, – относительным источником. Так вот, в воспоминании Бальбека, в превращении его в духовный пейзаж через воспоминание его в яблоневой ветке, покупаемой у цветочницы а Париже, Пруст иллюстрирует, что я могу знать сегодняшние цветы: просто заметить их, реагировать на них и воспринять их как цветы (мы устроены так, что мы цветы воспринимаем как цветы) – не потому, что они есть цветы, а по каким-то другим причинам, и существование цветка вне меня не есть причина того, чтоб я воспринял его как цветок. Если бы во мне не было бы Бальбека, то со мной не случилось бы события – цветы, покупаемые у цветочницы, – они для меня не были бы цветами. Так же, как я улицы воспринимаю лишь в том случае, если это скользкие, печальные улицы моего прошлого, – тогда я их воспринимаю как улицы, со всеми связанными ассоциациями, возможностями производить во мне какие-то представления, развивать какой-то мой мир и т д. – все, что улица может вызвать. Она не вызовет, если такого смыкания нет. Значит, я сегодняшние цветы знаю в качестве цветов лишь потому, что помню Бальбек – но не сознательно. Бальбек – работает, так сказать. Восприятие сегодняшних цветов в качестве цветов с помощью Бальбека, то есть прошлого, не есть сознательный акт (акт, регулируемый волей и сознанием), не есть рассудочный акт, это есть работа самого этого застрявшего во мне содержания. И тем самым, когда я узнаю цветы – сегодня, у цветочницы в Париже, – я не узнаю ничего нового. Но тем не менее, конечно, это есть духовное познание в смысле изменений, производимых в жизни, – то, что безразлично или могло оставить равнодушным, превращается в источник радости и переживания жизни. Но я не узнал ничего нового (не новому обрадовался), и в этом смысле Пруст считает, что знание или узнавание нового вообще есть эффект памяти, – как бы всплывание в душе каких-то прошлых встреч, как выражался Платон, с Богом. Платон так и определял мышление: мышление есть молчаливая беседа души с самой собой об испытанных когда-то или о прошлых встречах с Богом [416]. Или – переведите на язык Пруста – с потерянным раем. И вот все неориентированные, бесцельные и не имеющие будущего состояния вложились в материю, или в географию, или в пейзаж Бальбека, и в нем застряли – и я помню это. Что это значит? Это значит, что лишь неставшее можно помнить (это очень сложный пункт). То, что стало, полностью свершилось и завершилось – это вообще не есть объект памяти сознания. Лишь «неставшее» можно помнить, и поэтому память можно определить как ту форму или тот способ, каким «неставшее» хочет или пытается свершиться, стать. И это может растянуться на очень большое время, может занять целую жизнь, и даже жизнь не одного человека. И память – как умственная функция – состоит именно из такого рода формы или способа существования того, что не стало, или, другими словами, чего-то, что никогда не было настоящим в прошлом, никогда не становилось настоящим, работает и оказывается нашей памятью. И более того, даже наши знания оказываются эффектом такой памяти, или являются нашим разумом.
414
Еврипид. Трагедии. Т. I. Алкеста. М., 1969 (пер. И.Анненского).
415
Pr. – p. 187 – 188.
416
См.: Platon. T. II. Phedre. P. 39.