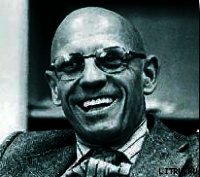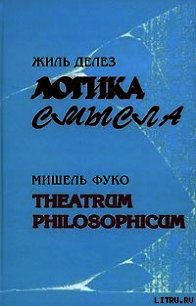История безумия в Классическую эпоху - Фуко Мишель (читать книги TXT) 📗
Теперь понятнее становится та интереснейшая и богатейшая смысловая нагрузка, которую несло на себе плавание дураков и благодаря которой оно так поражало воображение. С одной стороны, не нужно преуменьшать бесспорную практическую пользу от этого плавания; препоручить безумца морякам значит наверняка от него избавиться, чтобы он не бродил где попало под стенами города, а уехал далеко, сделался пленником своего отъезда. Но с другой стороны, тема воды привносит во все это целый сонм связанных с нею смутных представлений; вода не просто уносит человека прочь — она его очищает; к тому же, находясь в плавании, он пребывает во власти своей переменчивой судьбы: на корабле каждый предоставлен собственной участи, всякое отплытие может стать для него последним. Дурак на своем дурацком челноке отправляется в мир иной — и из иного мира прибывает, высаживаясь на берег. Плавание сумасшедшего означает его строгую изоляцию и одновременно является наивысшим воплощением его переходного статуса. В известном смысле это плавание — всего лишь распространившееся вширь, на все полуреальное, полувоображаемое географическое пространство, пограничное положение безумца; он пребывает на той линии горизонта, какая очерчивает круг интересов средневекового человека, и это его положение и символично, и в то же время вполне реально, ибо ему дарована привилегия быть запертым у ворот города: исключенный из городской жизни, он превращается в заключенного, а поскольку у него нет и не может быть иной тюрьмы, кроме порога в буквальном смысле слова, то и держат его строго на линии границы. Для внешнего мира он — внутри, для внутреннего — вовне. Такое в высшей степени символичное положение он занимает и поныне — если, конечно, иметь в виду, что прежняя вполне зримая крепость порядка превратилась сегодня в цитадель нашего сознания.
Именно такова роль воды и плавания на корабле. Безумец заперт на его борту, словно в тюрьме, побег из которой невозможен; он — всецело во власти реки с тысячью ее рукавов, моря с тысячью его путей, их великой переменчивости, неподначальной ничему. Он — узник, стоящий посреди самой вольной, самой широкой из дорог; он накрепко прикован к открытому во все концы света перекрестку. Он — Пассажир (Passager) в высшем смысле слова, иными словами, узник перехода (passage). И неведома никому земля, к которой причалит его корабль, — равно как не знает никто, из каких краев он прибыл, когда нога его ступает на берег. Нет у него иной правды, иной родины, кроме бесплодных просторов, пролегающих между двумя берегами, двумя чужбинами35. Неважно, ритуал ли отплытия с присущей ему системой значений находится у истоков этой связи помешательства и воды, которая прослеживается в сфере воображаемого западноевропейской культуры на протяжении всего ее существования, — или же, наоборот, именно их сближение вызывает из глубины веков этот ритуал и закрепляет его в сознании. Одно бесспорно: в восприятии европейца вода надолго связывается с безумием.
В свое время уже Тристан, прикинувшись безумцем, позволил морякам ссадить его на побережье Корнуэльса. И когда он появляется во дворце короля Марка, никто его не узнает, никто не ведает, откуда он держит путь. Но уж слишком часто ведет он странные речи — они и знакомы, и словно бы идут откуда-то издалека; слишком хорошо ему известно, что скрывается за самыми привычными вещами, — а значит, он выходец из какого-то очень близкого к нашему, но иного мира. Он — не пришелец с твердой суши, на которой покоятся твердыни городов; он — выходец из беспокойного, неугомонного моря, этой волшебной равнины, изнанки мира, чьи неведомые пути хранят в себе столько удивительных тайн. Изольда лучше, чем кто-либо, понимает, что этот безумец — сын моря, вестник беды, брошенный здесь дерзкими матросами: “Будь прокляты моряки, что привезли с собой этого дурака! Зачем они не вышвырнули его в море!”36 5*. Та же тема не раз возникает в последующие века: у мистиков XV столетия она трансформировалась в мотив души-челнока, одинокой в безбрежном море желаний, в бесплодном поле забот и неведения, окруженной бликами ложного знания, заброшенной в самую сердцевину неразумного мира; челн души обречен оставаться во власти великого моря безумия, если не удастся ему бросить надежный якорь веры либо поднять свои духовные паруса, дабы веяние духа Божьего направило его в порт37. В конце XVI в. Деланкр был убежден: именно море причиной тому, что все племя мореплавателей служит дьяволу: неверная пашня, по которой, полагаясь лишь на звезды, ведут борозду корабли;
секреты, передающиеся из уст в уста; удаленность от женщин; наконец, самый вид этой бескрайней волнующейся равнины лишают человека веры в Бога и сколько-нибудь прочных связей с родиной; и тогда он вверяет себя дьяволу и безбрежному океану его происков38. В классическую эпоху влиянием морского климата обычно объясняли меланхолический темперамент англичан: вечный холод и сырость, неустойчивая погода приводят к тому, что крошечные капельки воды, проникая во все жилы и фибры тела, делают человека хилым и предрасположенным к безумию39. Наконец, не касаясь богатейшей литературной традиции — от Офелии до Лорелеи, упомянем лишь грандиозную полуантропологию, полукосмологию Хайнрота, у которого безумие становится проявлением в человеке некоего темного “водного” начала, того сумрачного беспорядка, зыбкого хаоса, где все зарождается и все умирает, — хаоса, противостоящего светозарному, зрелому, устойчивому разуму40.
Но если в воображении европейца плавание дураков связывается со столькими мотивами, восходящими к незапамятным временам, то почему тогда эта тема так внезапно оформляется в литературе и в иконографии именно к XV в.? Почему вдруг возникают очертания Корабля дураков, а его дурацкая команда начинает назойливо вторгаться даже в привычнейшие картины жизни? Почему от древнего союза воды и безумия, в один прекрасный день — не раньше и не позже — появилось на свет подобное судно?
Потому, что оно символизирует собой ту тревогу и беспокойство, которые внезапно охватывают европейскую культуру в конце Средних веков. Безумие и безумец становятся важнейшими персонажами этой культуры — во всей своей двойственности: они несут в себе и угрозу, и насмешку, и головокружительную бессмыслицу мира, и смехотворное ничтожество человека.
Прежде всего, возникает целая литература сказок и моралите. Корнями своими она, по-видимому, уходит в далекое прошлое. Однако к концу Средних веков она захватывает все новые и новые пространства: теперь это длинная вереница “дурачеств”, где пороки и недостатки по-прежнему клеймятся, но возводятся уже к иному истоку — не к гордыне, не к недостатку милосердия, не к забвению христианских добродетелей, как было встарь, а к какому-то великому мировому неразумию, в котором, строго говоря, никто не повинен, но которое втайне влечет к себе всех и всех увлекает за собой41. Разоблачение безумия становится общепринятой формой критики. В фарсах и соти все более важное место занимает персонаж Безумца, Простака или Дурака42. Отныне это не просто забавная, привычная в своей маргинальности фигура43; он — хранитель истины, его место в самом центре театральной сцены, а роль обратна роли безумия в сказках и сатирах, но дополняет ее. Если Глупость ввергает каждого в какое-то ослепление, когда человек теряет себя, то Дурак, напротив, возвращает его к правде о себе самом; в комедии, где все обманывают друг друга и водят за нос сами себя, он являет собой комедию в квадрате, обманутый обман; на своем дурацком, якобы бессмысленном языке он ведет разумные речи, комичные, но становящиеся развязкой комедии: влюбленным он объясняет, что такое любовь44, юношам — в чем правда жизни45, гордецам, нахалам и обманщикам — как они в действительности ничтожны46. Даже старинные праздники дураков, которые были в такой чести во Фландрии и в Северной Европе, теперь переносятся на подмостки, а вся стихийная пародия на религию оформляется в социальную и моральную критику.