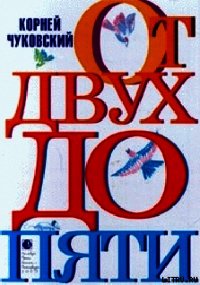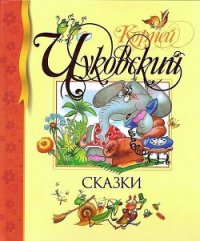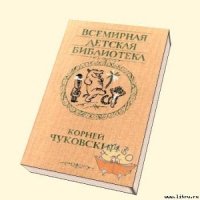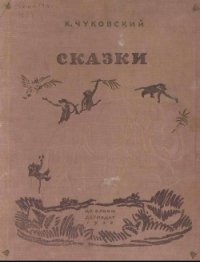Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь - Чуковский Корней Иванович (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Такие ханжи родились не вчера. Их идеал — те жеманные дамы, которые, по свидетельству Гоголя, «никогда не говорили: я высморкалась, я вспотела, я плюнула, а говорили: я облегчила нос, я обошлась посредством платка» и т. д. «Ни в коем случае нельзя было сказать: этот стакан или эта тарелка воняет. И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, и говорили вместо того: „этот стакан нехорошо себя ведет“ или что-нибудь вроде этого».
«При французском королевском дворе, — напоминает Леонтий Раковский, — существовал жеманный салонный язык знати. Из него изгонялись слова и фразы, казавшиеся грубыми для „высшего света“. В Версале говорили не „нос“, а „врата мозга“, не „глаз“, а „рай души“. Нельзя было сказать: „я люблю дыню“, потому что это унизило бы глагол „любить“, и говорили потому: „я уважаю дыню“. Ни одна придворная дама не рискнула бы произнести слово „рубашка“, а говорила иносказательно: „вечная подруга мертвых и живых“».
Недалеко ушла от этих жеманниц та русская женщина, которая сказала о своем новорожденном ребенке:
— Я кормлю его бюстом, — так как, очевидно, считала, что слово грудь — непристойное слово.
К числу этих жеманных «эстетов» несомненно принадлежит и тот, которому, как мы только что видели, ужасно не понравилось слово штаны, встречающееся в стихах Маяковского: «Достаю из широких штанин…», «Облако в штанах». Неприлично.
И читательница Нина Бажанова (Киев), приславшая мне сердитый упрек за то, что в одной из статей я употребил слово чавкает.
С омерзением пишет минский читатель М. Малевич о гениальном «Декамероне» Боккаччо, возмущаясь тем, что эта «похабная» книга невозбранно продается во всех магазинах — «и даже(!) в киосках».
Харьковский читатель Ф. Хмыров (или Хмаров) в красноречивом письме высказывает свое порицание «Графу Нулину» Пушкина, твердо уверенный, что эта бессмертная поэма написана специально «для разжигания чувственности».
Об Аристофане, Шекспире, Вольтере и говорить нечего. «У них столько непристойностей и грубостей, что я прячу их от своего 20-летнего внука», — пишет мне из Одессы пенсионер Митрофан Кирпичев.
Особенное возмущение вызвал у этих людей литератор, дерзнувший написать: «сивый мерин».
«Как это мерин? Да еще сивый… Совсем неприлично». [221]
Кому же не ясно, что заботой о чистоте языка прикрывается здесь лицемерная чопорность?
Ибо кто из нас может сказать, что в нашем быту уже повсюду умолкла отвратительная пьяная ругань, звучащая порой даже при детях? А эти ликурги считают своим долгом тревожиться, как бы общественная мораль, не дай бог, не потерпела ущерба из-за того, что в какой-нибудь книжке будет напечатано слово штаны! Как будто нравы людей только и зависят от книг! Как будто из книг черпают ругатели свое сквернословие!
Нет, грубость гнездится не в книгах, а в семье и на улице.
Чем бороться с «грубостями» наших писателей, пуристы поступили бы гораздо умнее, если бы дружно примкнули к тем представителям общественности, которые борются со сквернословием в быту.
Впрочем, иные нападают на грубую речь персонажей того или иного писателя не из ханжества, а просто потому, что неверно представляют себе, в чем специфика подлинных произведений искусства.
Читатель М. И. Ш. (Москва) пишет, например, с возмущением о том, что в кинофильме «Все начинается с дороги» употреблено выражение: «На кой (черт) мне твоя корова?», а в пьесе «Начало жизни», поставленной Владимирским театром: «На кой (черт) ты мне сдался!»
Читатель П. Д. Р. (Ленинград) возмущается тем, что в повести Г. Матвеева «Тарантул» есть такие жаргонные фразы:
«Вот какой костюмчик оторвал…», «Я бы двоек нахватал…», «Брось ты языком трепать…», «Меня первую спросили про его шахеры-махеры…», «Начинают диктовать какую-то муру…»
Такими же недопустимыми вульгаризмами кажутся этому читателю выражения, допущенные В. Дягилевым в рассказе «Дикий»:
«Знаешь, где камни мировые?», «Задаешься на макароны» и т. д.
Равным образом возмущает его, что в повести Д. Гранина «После свадьбы» некоторые персонажи говорят вот таким языком:
«Что это вы шибко серьезные…», «Это я в порядке трёпа», «Быстрее закругляйся» и т. д.
Читательница Н. (Ленинград) негодует, что в пьесе Александра Штейна «Океан» моряки пользуются в своей речи морскими терминами.
А почему бы им, спрашивается, и не выражаться именно так? Ведь главный ресурс всякого беллетриста, драматурга, изобразителя нравов — точное воспроизведение типической речи героев, наиболее ярко характеризующей и их личные качества, и ту среду, которая отражается в ней. Конечно, такие слова не всегда уместны в авторской речи, но в речи персонажей они прямо-таки необходимы.
Когда Ноздрев говорит в «Мертвых душах»:
«Я вовсе не какой-нибудь скалдырник!»,
а Собакевич утверждает, что просвещение — фук,
а мужики советуют друг другу пришпандорить коня кнутом,
а Плюшкин зовет своего товарища однокорытником, — нужно свирепо ненавидеть искусство, чтобы восставать против этих картинных и выразительных слов, придающих жизненную силу гениальному произведению Гоголя. Если, например, гоголевские мужики вместо «пришпандорить кнутом» скажут: «стегать», или «хлестать», или «бить», а знаменитый почтмейстер вместо «мосты висят там этаким чертом» скажет «там устроены чудесные мосты», — Гоголь сразу окажется худосочным писателем, далеким от реалистической правды.
Между тем от Гоголя и от его продолжателей современные ему мракобесы во главе с Булгариным, Сенковским и Гречем требовали именно такой обесцвеченной, обескровленной речи. И никак невозможно понять, по какой причине и во имя чего по их стопам так охотно идут наши «приятные во всех отношениях» дамы обоего пола.
Этим они уподобляются тому рецензенту, который, придя в зоопарк, был шокирован вульгарными названиями некоторых птиц и животных.
«Надо, — потребовал он, — еще внимательно пересмотреть надписи на клетках. Порой они звучат слишком грубо. Вот некоторые „перлы“ этого литературного „творчества“: „Стервятник“, „Выдра“, „Ехидна“, „Свинья обыкновенная“, „Вонючка“, „Осел“.
Неужели нельзя было обойтись без этих выражений?» [222]
Цинизм выражений всегда выражает циническую душу.
Другое дело, когда блюстители чистоты языка восстают против того вульгарного жаргона, который мало-помалу внедрился в разговорную речь некоторых кругов молодежи. Ибо кто же из нас, стариков, не испытывает острой обиды и боли, слушая, на каком языке изъясняется иногда наше юношество — школьники, студенты и молодые рабочие.
Фуфло, потрясно, шмакодявка, хахатура, шикара — в каждом этом слове мне чудится циническое отношение к людям, вещам и событиям.
Правда, многие из этих слов очень стары, существуют лет сто, не меньше, но теперь, когда они вошли в молодежный жаргон, все они зазвучали по-новому: с экспрессией бесстыдства, развязности, грубости.
В самом деле, может ли питать уважение к девушке тот, кто называет ее чувихой или, скажем, кадришкой? И если, влюбившись в нее, он говорит, что вшендяпился, не ясно ли: его влюбленность совсем не похожа на ту, о который мы читаем у Блока.
С глубокою тоскою узнал я о литературной беседе, которую вели в библиотеке три школьника, выбиравшие интересную книгу:
— Возьми эту: ценная вещь. Там один так дает копоти!
— Эту не бери! Лабуда! Пшено!
— Вот эта жутко мощная книжка!
Неужели тот, кто подслушает такой разговор, огорчится лишь лексикой этих детей, а не тем низменным уровнем их духовной культуры, которым определяется эта пошлая лексика? Ведь вульгарные слова — порождение вульгарных поступков и мыслей, и потому очень нетрудно заранее представить себе, какой развинченной, развязной походкой пройдет мимо тебя молодой человек, который вышел прошвырнуться по улице и, когда во дворе к нему подбежала сестра, сказал ей:
221
Александр Морозов. Заметки о языке. «Звезда», 1954. № 11. С. 144.
222
Пародия, к сожалению, слишком похожая на многие подлинники, заимствована мною из блистательной книги народного артиста СССР Н. П. Акимова «О театре». М., 1962. С. 297.