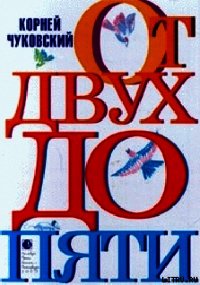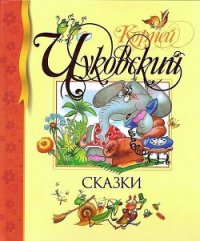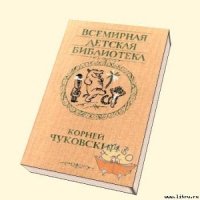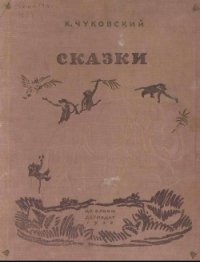Сказки. От двух до пяти. Живой как жизнь - Чуковский Корней Иванович (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
Конечно, нет! Эти слова совершенно подвластны ему. Почему же делать исключение для слова пальто, которое к тому же до того обрусело, что тоже обросло исконно русскими национальными формами: пальтишко, пальтецо и т. д.
Почему не склонять это слово, как склоняется, скажем, шило, коромысло, весло? Ведь оно принадлежит именно к этому ряду существительных среднего рода.
Пуристы же хотят, чтобы оно оставалось в ряду таких несклоняемых слов, как домино, депо, кино, трюмо, манто, метро, бюро и т. д. Между тем оно уже вырвалось из этого ряда, и нет никакого резона переносить его обратно в этот ряд.
Впрочем, и метро, и бюро, и депо, и кино тоже не слишком-то сохраняют свою неподвижность. Ведь просторечие склоняет их по всем падежам:
— В депе?— танцы.
— Завтра на бюре? рассмотрим!
— Я лучше метро?м поеду!
Сравни у Маяковского:
И у Шолохова:
«У нас тут не скучно: если кина нет, дед его заменит».
Возникли эти формы не со вчерашнего дня.
Еще в «Войне и мире» Льва Толстого:
«— Читали немножко, а теперь, — понизив голос, сказал Михаил Иванович, — у бюра, должно, завещанием занялись».
В драме «Поздняя любовь» А. Н. Островского:
«— Эка погодка! В легоньком пальте теперь… Ой-ой!»
У него же в комедии «Лес»:
«Пальты коротенькие носит».
Русский язык вообще тяготеет к склонению несклоняемых слов. Не потому ли, например, создалось слово кофий, что кофе никак невозможно склонять? Не потому ли кое-где утвердились формы радиво (вместо радио) и какава (вместо какао), что эти формы можно изменять по падежам?
Всякое новое поколение русских детей изобретает эти формы опять и опять. Четырехлетний сын профессора Гвоздева называл радиомачты — радивы и твердо верил в склоняемость слова пальто, вводя в свою речь такие формы, как в пальте, пальты. Воспитывался он в высококультурной семье, где никто не употреблял этих форм.
Так убеждал я себя, и мне казалось, что все мои доводы неотразимо логичны.
Но, очевидно, одной логики мало для принятия или непринятия того или иного языкового явления. Существуют другие критерии, которые сильнее всякой логики.
«Иногда, — говорит профессор П. Я. Черных, — новшество, вполне приемлемое с точки зрения логики языка, все же не удерживается в речевом обиходе, отвергается „языковым коллективом“». [201]
Мы можем сколько угодно доказывать и себе и другим, что то или иное слово и по своему смыслу, и по своей экспрессии, и по своей грамматической форме не вызывает никаких нареканий. И все же по каким-то особым причинам человек, который произнесет это слово в обществе образованных, культурных людей, скомпрометирует себя в их глазах. Конечно, формы словоупотребления чрезвычайно меняются, и трудно предсказать их судьбу, но всякий, кто скажет, например, в этом году выбора? или офицера?, сразу зарекомендует себя как человек не очень высокой культуры.
И как бы ни были убедительны доводы, при помощи которых я пытался оправдать склоняемость слова пальто, все же, едва я услыхал от одной очень милой медицинской сестры, что осенью она любит ходить без пальта, я невольно почувствовал к ней антипатию.
И тут мне сделалось ясно, что несмотря на все свои попытки защитить эту, казалось бы, совершенно законную форму, я все же в глубине души не приемлю ее. Ни под каким видом, до конца своих дней я не мог бы ни написать, ни сказать в разговоре: пальта, пальту или пальтом.
И нелегко мне было бы почувствовать расположение к тому человеку — будь он врач, инженер, литератор, учитель, студент, — который скажет при мне:
— Он смеялся в мой адрес.
Или:
— Матеря? пришли на выбора?.
Может быть, в будущем эти формы окончательно утвердятся в обиходе культурных людей, но сейчас они все еще ощущаются мною как верная примета бескультурья!
Что же касается таких форм, как пока, я пошел, вроде дождик идет и др., их несомненно пора амнистировать, потому что их связь с той средой, которая их породила, успела уже всеми позабыться, и таким образом, из разряда просторечных и жаргонных они уже прочно вошли в разряд литературных, и нет ни малейшей нужды изгонять их оттуда.
«Литературный язык, — говорил филолог Т. Винокур, — ни в коем случае нельзя понимать как язык только художественной литературы. Это понятие более широкое… Сюда входит язык научной, художественной, публицистической литературы, язык докладов, лекций, устная речь культурных, образованных людей».
Глава вторая
Мнимые болезни и подлинные
— Господи, какой кавардак! — воскликнула на днях одна старуха, войдя в комнату, где пятилетние дети разбросали по полу игрушки.
И мне вспомнилась прелюбопытная биография этого странного слова.
В XVII веке кавардаком называли дорогое и вкусное яство, которым лакомились главным образом цари и бояре.
Но миновали годы, и этим словом стали называть то отвратительное варево, вроде болтушки, которым казнокрады-подрядчики военного ведомства кормили голодных солдат. В болтушку бросали что попало: и нечищеную рыбу (с песком!), и сухари, и кислую капусту, и лук. Мудрено ли, что словом кавардак стали кое-где именовать острую боль в животе, причиненную скверной едой!
А потом, еще через несколько лет, к тому же слову прочно прикрепилось значение: бестолочь, неразбериха, беспорядок, неряшество.
Об этом поведал читателям известный лингвист Б.А. Ларин. [202]
В той же статье излагается диковинная биография слова семья.
В дофеодальную, родо-племенную эпоху это слово означало «коллектив родни».
После внедрения феодализма смысл слова резко изменился. Оно стало означать «слуги», «рабы», «челядь». В одном старорусском документе читаем:
«Взяли его, Сеньку, в полон татаровья с женою и с 2 детьми и со всею семьею» (1660).
Из чего следует, что ни жена, ни дети не назывались в то время семьей.
Наряду с этим у слова семья появилось новое значение: оно стало синонимом жены. В одном тексте так и сказано, что некий Евтропьев внес столько-то рублев в монастырь за детей и за семью свою Матрену, а в другом тексте другая жена называется семья Агриппина. Это значение слова семья сбереглось и в фольклоре:
Причем одновременно с этим значением (семья-жена) сохранялось и основное значение (семья-родня). Впоследствии первое из этих значений было отброшено, пренебрежено и забыто. Говорят, оно доживает свой век кое-где на Дону и в Поволжье.
Когда читаешь такие биографии слов, окончательно утверждаешься в мысли, что русский язык, как и всякий здоровый и сильный организм, весь в движении, в динамике непрерывного роста.
Одни его слова отмирают, другие рождаются, третьи из областных и жаргонных становятся литературными, четвертые из литературных уходят в просторечие, пятые произносятся совсем по-другому, чем произносились лет сорок назад, шестые требуют других падежей, чем это было, скажем, при Жуковском и Пушкине.
Нет ни на миг остановки, и не может быть остановки.
Здесь все движется, все течет, все меняется. И только пуристы из самых наивных всегда воображают, что язык — это нечто неподвижное, навеки застылое — не бурный поток, но стоячее озеро.
201
«Русский язык в школе», 1962. № 4. С. 113.
202
Б. А. Ларин. Из истории слов. Сб. «Памяти академика JI. B. Щербы». Л. 1951. С. 191–200.