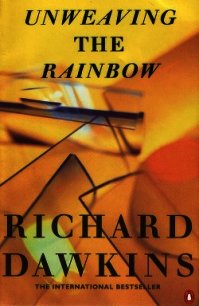Расширенный Фенотип: длинная рука гена - Гопко А. (книги бесплатно без онлайн TXT) 📗
Создается впечатление, что люди охотно готовы признать способность “среды” влиять на развитие человека. Общепризнано, что у ребенка, которого плохо учили математике, возникшее отставание по предмету можно ликвидировать высококлассным преподаванием в следующем учебном году. Но малейшее предположение, что отставание ребенка по математике имеет генетические корни, вероятнее всего будет встречено чем-то, похожим на безнадежность: раз это в генах, то так “на роду написано”, так “предопределено”, так что можно и вовсе не пытаться научить ребенка математике. Это пагубный вздор почти что астрологического пошиба. Действие генов и окружающей среды в принципе ничем не различается. Какие-то влияния обоих типов трудно обратить, какие-то легко. Какие-то, обычно труднообратимые, легко обратить, если подействовать нужным фактором. Важно здесь то, что нет никаких причин ожидать, будто влияние генов в общем случае окажется хоть сколько-нибудь необратимее влияния среды.
Чем же гены заслужили свою зловещую, дьявольскую репутацию? Почему мы не делаем такое же пугало, например, из ясель или конфирмационных классов? Почему гены считаются настолько более непреклонными и неотвратимыми в своих воздействиях, чем телевидение, монахини или книги? Не обвиняйте своих супругов, леди, что те спят со всеми подряд: не их вина, что они возбуждены порнографической литературой! Хвастливое заявление иезуитов: “Дайте мне ребенка на его первые семь лет, и я верну вам человека”, возможно, в чем-то справедливо. Образование и другие культурные влияния могут быть в определенных обстоятельствах столь же неизменяемы и необратимы, сколь и всенародно признанные гены и “звезды”.
Полагаю, гены стали детерминистическими пугалами отчасти по причине путаницы, вытекающей из хорошо известного факта ненаследуемости приобретенных признаков. До нашего столетия было общепризнано, что опыт и другие приобретения, сделанные в ходе жизни индивида, каким-то образом запечатлеваются в наследственном веществе и передаются детям. Отказ от этого убеждения, замена его вейсмановской доктриной о непрерывности половой плазмы и ее молекулярным двойником “центральной догмой” – величайшее достижение современной биологии. Если погрузиться с головой в смысл вейсмановского учения, то гены и впрямь покажутся чем-то дьявольским и неумолимым. Они маршируют сквозь поколения, влияя на форму и поведение следующих друг за другом смертных тел, но, за исключением редких и неспецифических мутагенных эффектов, никогда не подвергаются влиянию ни опыта, ни окружения этих тел. Мои гены пришли ко мне от двух моих бабушек и двух дедушек, они протекли через моих родителей, и ничто из того, чего мои родители достигли, приобрели, изучили и испытали, никак не коснулось этих генов на их пути. Возможно, в этом и есть что-то немного зловещее. Но как бы неумолимы и неуклонны ни были гены в своем шествии сквозь поколения, природа их фенотипических эффектов на тела, сквозь которые они проходят, никоим образом не является неумолимой и неуклонной. Если я гомозиготен по гену G, то я передам G всем своим детям, и ничто, кроме мутации, этого не предотвратит. Ровно настолько это неумолимо. Но то, буду ли я или мои дети показывать фенотипический эффект, обычно связываемый с обладанием G, может очень сильно зависеть от нашего воспитания, рациона, образования и от того, какими еще генами нам довелось обладать. Итак, из двух эффектов, оказываемых генами на мир, – копирование самих себя и влияние на фенотипы – первый, не считая редких случаев мутаций, неизменен, а второй может быть чрезвычайно гибок. Я думаю, таким образом, что миф генетического детерминизма – отчасти результат путаницы между эволюцией и онтогенезом.
Но есть и другой миф, усложняющий дело, и я уже упомянул об этом в начале главы. Компьютерный миф почти так же глубоко засел в современном сознании, как и миф генетический. Обратите внимание: оба процитированных мной фрагмента содержат слово “запрограммированы”. Так, Роуз саркастически отпускает грехи волокитам, поскольку те генетически запрограммированы. А Гульд говорит, что если мы запрограммированы быть тем, что мы есть, то наши свойства неотвратимы. Мы и впрямь обычно употребляем это слово для обозначения чего-то бездумного и негибкого, противоположного по смыслу свободе действия. Компьютеры и “роботы” имеют репутацию отъявленных буквоедов, бездумно выполняющих инструкции, даже если последствия очевидно абсурдны. А иначе с чего бы им рассылать эти знаменитые счета на миллион фунтов, которые регулярно получает двоюродный брат знакомых ваших друзей? Я забыл о великом компьютерном мифе, так же как и о великом генетическом мифе, а то бы я был более осторожен, когда собственноручно писал, что гены кишат “внутри гигантских неповоротливых роботов”, а мы – “машины выживания, транспортные средства, слепо запрограммированные оберегать эгоистичные молекулы, известные как гены” (Dawkins, 1976a). Эти отрывки победоносно цитировались и перецитировывались, явно через вторые и даже третьи руки, в качестве примеров неистового генетического детерминизма (напр., ‘Nabi’, 1981). Я не извиняюсь за использование языка робототехники. Я без колебаний буду пользоваться им вновь. Но теперь мне понятно, что нужно давать больше пояснений.
Я уже тринадцать лет проповедую данный взгляд на естественный отбор, и из опыта мне известно, что главная проблема с “машиной выживания эгоистичных генов” – это риск специфического непонимания. Метафора умного гена, рассчитывающего, как лучше обеспечить свое выживание, очень сильная и наглядная. Но при этом так легко уйти в сторону и приписать гипотетическим генам познавательные способности и мудрую предусмотрительность в планировании своей “стратегии”. По крайней мере три из двенадцати неправильных толкований родственного отбора (Dawkins, 1979a) напрямую связаны с этой базовой ошибкой. Вновь и вновь небиологи пытаются доказать мне наличие какой-либо формы группового отбора, фактически наделяя гены предусмотрительностью: “Долгосрочные интересы генов требуют продолжительного существования видов; а значит, не должны ли мы ожидать наличия приспособлений, препятствующих вымиранию вида, пусть даже за счет кратковременного репродуктивного успеха особи?” Когда я использовал язык автоматики и роботов, когда я употреблял слово “слепо” по отношению к генетическому программированию – это было попыткой предотвратить подобные ошибки. Но слепы, разумеется, гены, а не запрограммированные ими животные. Нервные системы, как и созданные человеком компьютеры, могут быть достаточно сложны, чтобы демонстрировать разум и способность к предвидению.
Саймонс (Symons, 1979) ясно излагает этот компьютерный миф:
Я хочу указать, что заключение, к которому приходит Докинз, когда употребляет слова “робот” и “слепо”, будто эволюционная теория поддерживает детерминизм, абсолютно безосновательно… Робот – это бездумный автомат. Возможно, некоторые животные и являются роботами (у нас нет способа проверить), однако Докинз говорит не о некоторых животных, но обо всех животных, а в данном случае конкретно о людях. Тут уместно перефразировать Стеббинга: “робот” – антоним “разумного существа”, или же, в переносном смысле, человек, действующий как будто механически. Но при обычном словоупотреблении не существует такого значения слова “робот”, при котором фраза, будто все живые существа – роботы, имела бы смысл (с. 41).
Идея отрывка из Стеббинга, который перефразирует Саймонс, вполне разумна и заключается в том, что X – полезное слово только в том случае, если существуют предметы, которые не являются X. Если все на свете роботы, значит, слово “робот” ничего существенного не означает. Но слово “робот” может вызывать и другие ассоциации, и механическая негибкость – не та ассоциация, которая приходила мне в голову. Робот – это программируемая машина, а важная отличительная черта программирования состоит в том, что оно отделено от выполнения программы и осуществляется заранее. Компьютер запрограммирован вычислять квадратные корни или играть в шахматы. Взаимосвязь между играющим в шахматы компьютером и тем, кто его запрограммировал, неочевидная, что открывает широкие возможности для неправильного истолкования. Можно было бы подумать, что программист следит за развитием партии и дает компьютеру указания перед каждым ходом. На самом деле, однако, программирование заканчивается до того, как начнется игра. Программист пытается предвидеть все случайности и встраивает в программу чрезвычайно сложные указания для различных ситуаций, но как только началась игра – он должен держаться в стороне. Ему не позволяется делать ни малейшего намека компьютеру в ходе игры. В противном случае он уже не программист, а исполнитель, и его вмешательство в турнир должно расцениваться как нарушение. В работе, которую критикует Саймонс, я широко использовал эту аналогию с компьютерными шахматами, для того чтобы пояснить, что гены не контролируют поведение напрямую, вмешиваясь в его ход. Они контролируют поведение только в том смысле, что предварительно программируют машину. Именно с этой чертой роботов мне хотелось вызвать ассоциацию, а не с чем-то бездумным и негибким.