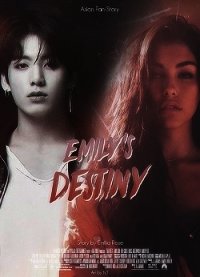Мать моя — колдунья или шлюха - Успенская Татьяна (лучшие книги читать онлайн TXT) 📗
— Иов!
Моё имя — как пуля — прострелило голову.
— За тобой пришли, — голос нянечки. Я повернулся.
В дверях — Павел. И все смотрят на него: воспитательница, нянечка и ребята.
— Папа! — крикнул я и бросился к нему.
Нет, я не крикнул и не бросился. Павел подошёл ко мне сам и поднял меня. В эту минуту все слёзы, что собирались во мне столько лет детского сада, закипели, забурлили и помчались вон.
— Ну, полно. Я буду всегда приходить за тобой, — зашептал он мне в ухо. — Я не знал, что мама не берёт тебя.
Он прижал меня к себе так, как прижимал при Вилене, и понёс к двери. Я ничего не видел и не слышал — зависть, обида вырвались из-под моей брони и теперь погружали в огонь мой детский сад, вместе с воспитательницей, нянечкой, ребятами и уже толпящимися в раздевалке родителями.
Павел не мог оторвать меня от себя, а шея его была мокрая от моих слёз.
В тот день ко мне склонился мой отец и долго утирал широким платком моё лицо, приговаривая:
— Поплачь. Поплачь.
И то, что он знал, — освобождение от скопившегося за долгие годы принесёт мне облегчение, вызвало ещё больше слёз.
Это был переход из одного состояния в другое. Я принимал новый способ отношений: наконец я разрешил Павлу любить меня и теперь учился сам любить в ответ и получать от этого удовольствие. О, как мне нравился теперь запах раскалённого железа! Как мне нравились руки Павла, завязывающие шнурки моих ботинок и шапки! Как мне нравилось крутить головой, вроде я совсем не замечаю его возни со мной, вроде она мне совсем безразлична. Долетели до меня слова нянечки:
— Замуж вышла, что ли?
И шёпот воспитательницы:
— Разве чужой мужик будет так нянчиться? Отец! Отец. В эту минуту я понял, что значит, когда есть отец. Я как все. А может, и не совсем как все. Теперь мне могут завидовать, такой у меня необыкновенный отец.
Мы вышли из сада. Я сам протянул руку Павлу. Не сговариваясь, мы двинулись от дома прочь.
Рука Павла была горячая и чуть влажная…
Привёл меня Павел на детскую площадку. Лестницы с узкими перекладинами, качалки, качели, кони… — чего только там не было! Он подтолкнул меня к качелям.
— Держись крепко.
К качелям, как и к стеклу в детском саду, прилипло совсем немного снежных комков. Снег явно не торопился. Он выслал своих смелых разведчиков — погибнут они или город готов к нашествию снега?
Первый раз я качался на качелях. То ли очень холодные цепи, а у меня варежек нет, то ли отьединённость от Павла показались мне непереносимыми, только я сказал:
— Не хочу!
— Руки замёрзли? — догадался он, тут же остановил качели, снял меня. Поставив на землю, принялся растирать мои руки. А потом надел на них свои перчатки.
Он думал, я полезу по лестнице или сяду в качалку, но я не полез и не сел, я стоял и держал перед собой тёплые руки, получая удовольствие от перчаток Павла.
— Хочешь, пойдём в кафе? — спросил он и, полуобняв за плечи, повёл со двора.
Отрыжка капустой прошла, лишь когда в притушенном оранжевом свете, под тихую музыку, совсем не такую, как мамина, я съел кусок курицы. Курица оказалась мягкая, словно она и не курица вовсе, а пюре.
— Меня зовут тётя Шура. — Полная, курносая женщина, принёсшая нам еду, смотрит голубыми глазками, как я ем. По её пухлым розовым щекам текут слёзы. Я не понимаю, что с ней, и поворачиваюсь к Павлу.
— Спасибо вам, — говорит он сухо. Хмурится. — А не принесёте ли вы сыну мороженого?
— Сейчас, конечно, ой, простите! — Чуть не бегом она бросается к двери, за которой исчезают все белые фартуки.
Павел сердито смотрит ей вслед — что-то она сделала ему неприятное.
Она приносит большие разноцветные шарики с орехами.
— Земляничное, смородиновое и шоколадное, я не знаю, какое ты любишь, — говорит тётя Шура, но под взглядом Павла спешит уйти.
Не проходит и нескольких месяцев, как тётя Шура становится близким нашим другом. Мы знаем о ней всё. Есть у неё кот Мурзик, можно считать, единственный член её семьи. Правда, есть и сын. Но невестка попалась несердечная, не разрешает видеться с нею, с его матерью. И осталась тётя Шура на старости лет совсем одна, если не считать, значит, Мурзика. Внучку видит только за решёткой детского сада. Правда, с воспитательницами познакомилась, вызвала их сочувствие — те разрешают поговорить с девочкой. Подойдёт к ней тётя Шура на прогулке, сунет конфету или печенье и споёт ей свою песню, смешанную со слезами: «Если тебе чего надо, скажи, я тебе всё… Если тебе плохо, приди ко мне». Вот и вся её семейная жизнь. Девочка, по выражению тёти Шуры, попалась сообразительная, на разговор откликается и тянет из неё то, что хочет: куклу, конфеты, печенья, орехи, апельсин. «Но я духом не падаю, — улыбается тётя Шура. — Я и в школу буду приходить, авось Иринка всегда будет любить меня. Глядишь, и в гости придёт. Чем плохо бабушку иметь? А уж я расстараюсь — всей душой».
В свою очередь и Павел в долгу не остаётся. Откровенность за откровенность: рассказывает тёте Шуре про то, как учился, как в походы ходил.
К тёте Шуре мы ходим с Павлом каждый рабочий день, кроме пятницы. В этот день мы сразу из детского сада спешим домой.
В одно из наших возвращений в пятницу снова дома — Вилен. Первые слова, которые я слышу:
— Ты всё равно будешь моей.
Музыка не звучит. И мать сидит опустив голову, что совсем не вяжется с её характером.
Павел, не раздеваясь, тянет меня на мою территорию, но, лишь делает шаг по комнате матери, как Вилен вскакивает и заступает ему дорогу:
— Ты опять здесь? Что ты тут ошиваешься? Мгновенно меняется выражение лица. Только что просящее, когда вроде и не видно белёсости глаз, и сразу — ненависть к Павлу.
Вилен на голову выше Павла и много шире и одной рукой, кажется, может Павла сломать. Я прижимаюсь к Павлу: пусть ломает и режет нас обоих.
Павел не отвечает, обходит его и, полуобняв, ведёт меня в мою комнату.
Но Вилен хватает его за плечо, резко поворачивает к себе.
— Нет, ты ответишь мне! Что ты делаешь здесь?! Какое право имеешь?
Возле оказывается мать.
— Взять силком, надругаться над людьми и природой, разрушить, уничтожить… — не способ добиться меня, — говорит она без злости, очень тихо.
Ещё режет Павла взгляд Вилена, а рука ещё сжимает резко плечо Павла, но теперь во всём облике Вилена — зависимость.
Как хорошо мне знакомо это чувство! При матери у меня нет воли, нет своих желаний, я ловлю её настроение, её движения. Моя зависимость от неё — невозможность обратить внимание на себя и невозможность проникнуть в её тайну.
А на Вилена она смотрит. Что бы я ни отдал, чтобы она посмотрела на меня! С гневом, с неудовольствием — как угодно, только посмотрела бы. На меня она не смотрит никак, никогда.
Вилен отпускает плечо Павла и угодливым голосом спрашивает:
— Ты живёшь с ним? Ты содержишь его? Почему Павел не взорвался? И тут же понимаю:
да потому, что слова Вилена — ложь, да потому, что Павел — над Виленом и пересечься с ним не может даже словом.
— Оскорблять людей, унижать, совершать насилие, убивать — твоя профессия. Помнишь, что ты сделал с Линой только за то, что она отказалась участвовать в комедии с ёлками?
Нам бы с Павлом давно уйти, но мы оба заворожены материным голосом и ждём продолжения.
— О чём ты говоришь? Какая Лина? Какие ёлки? Что ты можешь знать о моей жизни? — Но глаза Вилена под взглядом матери хотят сбежать с лица, а лицо теряет цвет и становится таким же белым, как глаза.
— Она не снится тебе?
— Кто?
— Для тебя преступление Лины состояло в том, что она отказалась ехать в лес за ёлками, рубить и втыкать в снег перед учреждением, в котором служила, она осмелилась сказать твоему доверенному: «Зачем бутафория? План подтасовали, теперь интерьер меняете?» Она много знала, та девушка! Работала в бухгалтерии, отгадала тайны цифр…
— Послушай, ты что, работала с ней? — спросил Вилен чуть не шёпотом.