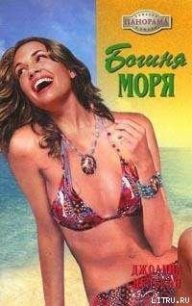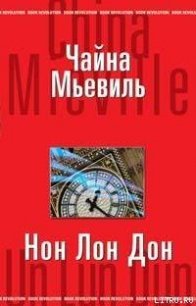Все еще здесь - Грант Линда (лучшие книги читать онлайн бесплатно TXT) 📗
Целый год после свадьбы Мелани рыдала всякий раз, как входила на кухню. Однажды, вернувшись с работы, Сэм застал ее в истерике: она стояла посреди кухни и заливалась слезами, сжимая в руке прорванный бумажный пакет, откуда сыпалась фасоль. Надо сказать, что сама Мелани ест очень мало: воля у нее железная, ей ничего не стоит денек поголодать, а на следующий день не брать в рот ничего, кроме фруктового сока, — «чтобы вывести шлаки». Лакомства ее не интересуют. На едуона смотрит как на топливо — и заливает в себя ровно столько, чтобы хватило для бесперебойной работы. Сэм обнял ее и сказал, что к плите больше и близко не подпустит, что согласен до конца жизни питаться сырым мясом, сырыми яйцами, бутербродами, фруктами и прочими продуктами, не требующими приготовления, — лишь бы его Мелани была счастлива. Но она мужественно боролась с собой — и за тридцать лет семейной жизни освоила варку картошки, жарку яичницы и даже однажды приготовила у нас на глазах (по рецепту) салат «Цезарь».
— Знаете что, — сказала я, — если не возражаете, готовить буду я.
А чем еще заниматься во Франции? Каждое божье утро отправляться в ближайший городок под названием Лаленд и бродить из магазина в магазин, закупая хлеб, бриоши, баранину, помидоры, рокфор, клубнику, шоколад, мерло… Там я в первый раз поняла, что и в прозаическом хождении за покупками есть своя поэзия. Во Франции любой товар подается как произведение искусства — да и сама жизнь во Франции, кажется, есть своего рода искусство. Спаржа в связках, серебристый блеск макрели, клубника, пухлая и алая, словно ротик младенца, крепкие лимоны, чуть тронутые зеленью, запах приправ, лаванды, розмарина и кервеля под голубым июньским небом — все обостряет чувства, заставляет с особой силой ощутить, что живешь. За кофе встречаешься с новыми друзьями — и что обсуждаешь? Рецепты, разумеется. Там-то я и научилась готовить. Меня звали в гости, я приглашала друзей в ответ и сооружала праздничные блюда по своему разумению, а они хвалили и спрашивали рецепты. Искренне ли — кто знает? Но поварское искусство увлекло меня всерьез — увлекло, должно быть, своей бесцельностью: трудишься-трудишься, выбиваешься из сил, исходишь потом только для того, чтобы кто-нибудь (возможно, ты сама) пришел и съел созданный тобой шедевр. И не оставил ничего, кроме грязной посуды.
Так или иначе, мы нашли занятие, которое позволило бы нам отвлечься от тягостного ожидания. Я согласилась приготовить ужин для незнакомого американца по имени Джозеф Шилдс.
Но после обеда, когда я укладывала в холодильник свежезакупленных цыплят, лимоны и шоколад, а Сэм нянчил бутылочку «Медок», привезенную мною из Франции, позвонил доктор Муни. Сэм снял трубку и услышал: «Послушайте, не пора ли положить всему этому конец?»
— Вы хотите знать, — уточнил Сэм, — не собираемся ли мы попросить вас убить нашу мать?
— Я ведь думал об этом, — признался он мне потом, после того, как рявкнул: «Знаете что? Идите вы к черту!» — и бросил трубку. — Да, это выход. Но для меня этот выход закрыт. Напрочь. Как древние заржавелые ворота.
— А ты не пробовал их открыть?
— Пробовал. Не поддаются.
Мы поехали в дом престарелых, сели у маминой кровати и долго смотрели на нее.
— В чем-то он прав, — проговорил наконец Сэм, глядя, как мучительно вздымается и опадает под тонким одеялом иссохшая мамина грудь. — Это не жизнь.
— А что же это, Сэм? — повернулась к нему я.
Но мой старший брат — адвокат, знающий все на свете, — не знал, какое слово подобрать для медленного умирания нашей матери. Не знала и я.
— Не понимаю, зачем продлевать ее мучения? — заметил доктор Муни, которого вызвала сестра О'Дуайер. Вызвала, судя по всему, из-за стола, и, входя в палату, он утирал губы голубым носовым платком.
— А вам-то что? — взвился Сэм. — Палат не хватает? Какой-то старой карге срочно требуется кровать? Или боитесь, что нам надоест вносить пожертвования?
— Или вы не можете больше смотреть ей в лицо? — подхватила я. — Так вот, мы — можем. И если вы считаете, что у меня другого дела нет, как только сидеть над умирающей матерью, вы правы. У меня, черт побери, других дел нет. И я, черт побери, буду сидеть здесь с ней, пока ад не замерзнет!
— Мисс Ребик, прошу вас, подумайте на минуточку о ней. Может быть, ей плохо, может быть, ей больно — а сказать об этом она не может. Она не может глотать, уже несколько недель она не ела нормальной пищи; она истощена и, если так будет продолжаться, может просто умереть от голода. Самое большее, что нам удается, — влить в нее немного воды. Так или иначе, она умрет: все, что мы можем, — подарить ей быструю и безболезненную смерть. В сущности, она уже мертва — давно была бы мертва, если бы не современные антибиотики. Послушайте, как она хрипит. Это бронхит, а за бронхитом придет пневмония. Хотите, чтобы она еще и это испытала? Если сейчас я дам ей морфин, это облегчит ее страдания; но она так слаба, что не переживет ночь. Поверьте, мне случалось видеть смерть, случалось видеть убийство. Я чту жизнь, и если женщина придет ко мне и попросит сделать ей аборт, я посоветую ей обратиться к кому-нибудь другому. (Не сочтите за неуважение к вашему отцу, — поспешно добавляет он, — он был прекрасный человек и, по всем отзывам, врач замечательный, хотя, к сожалению, сам я не успел его узнать как следует.) Так вот: ваша мать безнадежна, понимаете? Без-на-деж-на. Не думайте, что в один прекрасный день, как в старых фильмах, войдет доктор с эликсиром в бутылочке и скажет: «Ура, я изобрел лекарство». Она на смертном одре. Так, ради бога, не мучайте ее, дайте ей спокойно уйти в мир иной.
— Зачем? — спрашиваю я сквозь слезы. — Вы думаете, ее там кто-нибудь ждет?
— Лично я думаю — да. Во что верила ваша мать — не знаю. Но, поймите, никто из нас не бессмертен. Когда жизнь окончена, должна наступить смерть. Это закон природы.
— Вы еще будете мне говорить о законах? — ворчит Сэм. Но ворчит .скорее по инерции, словно не в силах допустить, чтобы последнее слово осталось за противником.
— Думаю, вам надо пойти домой и хорошенько все обдумать, — замечает Мэри О'Дуайер. — Утро вечера мудренее.
Мы встаем и пожимаем доктору руку, и Сэм извиняется за нас обоих, за нашу суровость. Перед уходом Муни ободряюще сжимает мое плечо, и мне становится чуть легче. А потом он уходит домой, к жене.
Сэм живет в новой квартире, в районе доков. Мы входим в пустой гулкий холл, поднимаемся на лифте, Сэм поворачивает ключ в замке, и мы попадаем в футуристическую обстановку — некрашеные кирпичные стены, стальные колонны, поддерживающие потолок, стулья, на которые смотреть приятно, а вот садиться страшновато.
— Сэм, — спросила я, когда все это увидела в первый раз, — скажи честно, сколько ты заплатил за такую вот изысканную простоту?
— Целое состояние.
Окна от пола до потолка выходят на реку. Сквозь серые низкие тучи пробивается и озаряет воду тусклый свет. Перекрывая низкий рокот судовых моторов, знакомо кричат чайки.
— Знаешь, почему мне сейчас особенно тяжело? — говорит Сэм.
— Почему?
— Всю жизнь я был защитником, а теперь должен стать судьей. Выслушать мнения сторон и решить, кто прав. Это задача не для меня. А ты что думаешь, Алике? Ты ведь у нас эксперт по убийствам.
Верно, я кое-что знаю о смерти — годы учения не прошли даром. Мы садимся за стол: я смотрю на свои ногти, покрытые ярко-красным лаком, перевожу взгляд на обкусанные ногти Сэма. Кусочки мертвой плоти, вросшей в плоть живую. Кровеносные сосуды — кабели, по которым течет электричество жизни.
— Давай спросим себя, что бы сделал в такой ситуации папа. Думаю, он вспомнил бы о цдака. А это понятие включает в себя и справедливость, и милосердие. Спросим себя: то, что мы собираемся сделать, — это справедливо? Это милосердно?
— Понятия не имею. Давай сперва разберемся с законностью. Думаю, Муни не стал бы предлагать, будь это незаконно. Должно быть, они часто так делают.
— Это эвтаназия?