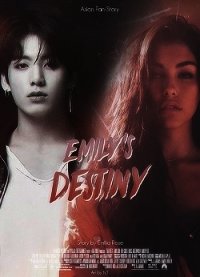Мать моя — колдунья или шлюха - Успенская Татьяна (лучшие книги читать онлайн TXT) 📗
Но Павел не похож на других. Он так говорил с мамой, что она стала рассказывать о себе. Это Павел повернул её ко мне.
— А разве ты мой папа? — спросил я с надеждой: может, так оно и есть.
Странное утро. Живёт только каша — булькает, пыхтит, брызгается, а мы словно замерли оба.
— Нет, к сожалению, я не твой папа, но… — Павел снова долго молчит, — я очень хочу быть твоим папой. У меня не может быть мальчика, потому что нет жены, а у тебя… нету папы. Я так хочу, чтобы ты был моим сыном…
— Если хочешь, будь моим папой, — вежливо говорю я, не очень понимая, что из этого следует и как изменится теперь моя жизнь. Честно признаться, мне очень понравилось, что не надо сегодня искать еду, а можно грызть яблоко. — Я могу, раз ты мой папа, называть тебя папой, — добавил я и решительно откусил кусок от яблока.
Как быстро человек привыкает к хорошему!
— Ты доволен, что не пошёл сегодня в детский сад?
— Не знаю, — честно говорю я. И, правда, я не знаю, так как мне очень странно ощущать чьё-то внимание к себе.
— Да, я совсем забыл, я принёс пылесос. Одно из моих давних изобретений.
Павел идёт к коробке, оставленной у входной двери, развязывает верёвку, вынимает незнакомый предмет, подключает его к электричеству и нажимает кнопку. Раздаётся стрекот. Железными губами предмет хватает с пола крошки, клочок полиэтиленового пакета, семечко от яблока, всасывает в себя, крутится в поисках сора на одном месте.
— Ты сам сделал?!
Павел кивает и объясняет, как работает пылесос.
Может, это сон: пылесос, каша, тёплой тяжестью загрузившая меня, яблоки, горячая рука Павла, ведущая меня к метро, а потом к вокзалу.
Первый раз еду в электричке.
Павел читает мне книжку, но я не понимаю ни слова, смотрю в окно — летят дома, деревья, столбы, птицы, прохожие… Как много домов, как много людей!
Кто они, эти люди, как живут?
— Видишь столбы и провода? — Павел приобнимает меня одной рукой, прижимает к себе. — По ним идёт ток.
Я перестаю дышать. Даром, просто так, — тепло от Павла — мне.
Мать не даёт мне тепло сама. Она никогда ничего не даёт мне сама. Это я исхитряюсь, когда она кладёт свои руки на моё больное место, устроиться так, чтобы коснуться её колена или живота и пить тепло, текущее от неё, через тот небольшой участок, которым я сумел соединиться с ней. Под рукой Павла понимаю: я у неё тепло ворую.
Сейчас, впервые в моей жизни, мне тепло дают, щедро и просто так. И — впервые — берут моё тепло у меня. Берут насильно.
Нравится ли мне это?
Незнакомое ощущение.
Под голос Павла пытаюсь привести в порядок свои чувства.
Да, конечно, мне нравится лёгкая тяжесть руки Павла у меня на плече. И пульсирующее тепло, обволакивающее моё тщедушное тело. Почему же — страх?
Что-то происходит такое, чего я не могу определить словом. Я ещё не умею читать и не имею большого багажа пережитого. Пройдёт много времени, пока проявится точное слово, оно — измена. Сейчас чувствую лишь то, что Павел нарушает мою связь с матерью.
Конечно, тогда, в свои пять-шесть лет, на пути в лес, к реке, к театру, я не мог определить своего состояния словами, я лишь ощущал неудобство в себе вместе с новым чувством, назвать которое я не умел, но которое мне очень нравилось. Я осуждал это новое чувство, вздувал в себе неудобство: ведь я должен жить только ради матери и страданием добыть себе её любовь.
Павел рассказывает про турбины и плотины, а я плохо слушаю, пытаюсь решить освободиться от его руки или допустить в себе неудобство, связанное со сладким новым чувством? Конечно, я понимаю, выскользнуть из объятий — значит обидеть Павла, а мне очень не хочется обижать его, ибо он — первый на свете человек, который мною интересуется.
Слава богу, в тот день сладкая мука кончилась сама собой — мы приехали.
Был один из последних дней августа. Грань тепла и холода. Вроде жарко, а пронзают тело ледяные стрелки.
Павел, как только ступил в траву, снял сандалии. И я сделал то же.
Стою и не могу понять, что со мной. Откуда я знаю запахи травы, солнечного света, подбирающейся исподтишка стужи и ощущение влажной травы? В детском саду во дворе есть трава, но она, городская, пахнет совсем не так.
Задыхаюсь — незнакомые запахи заткнули нос и рот. Слепну — свет, оранжево-зелёный, залил глаза. Глохну — звуки столкнулись в ушах, не могу выделить ни одного: какой птичий, какой от насекомых, какой от травы, какой от воздуха.
Павел берёт из моих рук сандалии, кладёт их в рюкзак.
— Идём в глубь леса, подальше от дороги, выберем полянку. — Он снова чуть приобнимает меня, и мы идём.
«Идём» — неточно. Мы словно некоей силой чуть приподняты над землёй, хотя подошвы чувствуют траву. Цвета, звуки… оккупируют меня, делают меня принадлежностью этого мира — я растворён в нём. И всё это как-то связано с матерью. Я не дальше от неё, я ближе к ней сейчас. Она — здесь. Вот же она! В руке Павла, обнявшей меня, в голосе Павла, называющем мне деревья, растения. Она — берёзы, она — ромашка. Она — земля под моими ступнями, то усеянная шишками, то подстилающая мне траву.
— Смотри, специально для нас…
Его слова лишают меня последних сил — я буквально падаю в зелень и наконец становлюсь плотью матери: со всех сторон она поднимается моей защитой.
И Павел падает в зелень.
В окружении деревьев — серо-голубое небо. Солнце никак не заберётся на серёдку его.
Мне нравится, что Павел молчит, — я слышу голос матери:
«Может быть, теперь ты поймёшь, что ты сделал?»
«Не понимаю».
«Ничем не могу помочь. Человек понять может только сам».
Мать — свет, никак не собирается в человека.
Павел вытащил из рюкзака одеяло, расстелил на траве.
Папа?!
Что значат слова матери? То, что она — свет, трава и поэтому не может принадлежать мне?
— Лови! — Павел держит в руках мяч, смотрит, услышал ли я его. Кидает, когда я встаю.
Мяч, несмотря на то, что большой, — лёгкий, но я не удерживаю его, и он летит в траву.
Бегать, играть, делать упражнения для меня оказалось проблемой в детском саду. Я не говорил «не буду», когда воспитательницы приказывали мне, но и не делал ничего, при этом наливался какой-то тяжестью, оставлявшей меня на месте. Сначала воспитательницы атаковали меня уговорами, раздражением, насилием, а потом отстали. Ребята же вообще внимания не обращали, в свои игры не звали. Меня это никак не задевало. Тащат за верёвку машину, кладут в неё кубики, части конструкторов, кегли, строят из кубиков гараж, вталкивают в него машинки, снова вывозят их, изображая мотор. Ну и что тут интересного? Хвастаются, у кого какие машинки дома. У меня — ни одной. Если бы и были… зачем они мне? Утёнка можно прижать к месту, которое болит.
Поднимаю мяч, и — странное ощущение… мои движения (кидаю мяч, пытаюсь поймать, поднимаю с травы, снова кидаю) так же хаотичны и — одновременно — так же целенаправленны, так же естественны, как голоса птиц, полёт и голос пчелы, как дрожание света.
Это то, что хотела сказать мать? Во всём — одновременно хаос и целенаправленность?
Нет, конечно, не такими словами я думал в свои пять-шесть лет (а какими, не помню), но ощущения, чётко помню, были именно такими: удивление перед противоречием. Летит пчела к цветку, я махнул рукой — отогнал её, и она точно так же серьёзно полетела в сторону противоположную. Она знает, куда летит? Ей всё равно, куда лететь? Ей важен процесс полёта или у неё есть цель? Ей всё равно, какой цветок? А птица прыгает с ветку на ветку, склоняет ко мне голову, свистит, взмахивает крыльями, летит. Куда?
Павел показывает, как нужно сделать руки, чтобы удержать мяч, а когда я не удерживаю, хотя и держу руки так, как он показал, кивает мне, словно я поймал мяч, и снова бросает.
Увидев, что я устал, зовёт меня к дереву.
— Хочешь залезть? — Он подтягивается за ветку, ставит ногу на сучок и начинает взбираться вверх.
Почему у меня так колотится сердце? Чего я испугался? Да, я хочу залезть на дерево и едва дожидаюсь, когда Павел слезет.