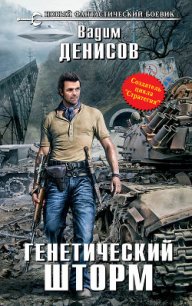Дуэт - Шевякова Лидия (книги бесплатно без регистрации полные TXT) 📗
— Это отпадает, за три года в плену у сектантов можно умом тронуться. А сколько стоят первоначальные документы политэмигранта?
— Не знаю. Надо у папы спросить. Он, кстати, хорошо говорит по-русски, хотя писать уже не может, а я и вообще не знаю ни одного слова, хотя отец настаивал. Он считает, что эмигранты пойдут к тому, кто говорит по-русски, но я хочу заниматься не практикой, а теорией, философией права.
— Это как?
Сара начала обстоятельно и долго объяснять, как прекрасна Америка и почему американское право надо распространить на весь мир — и тогда все будут счастливы. Что Америка единственная несет людям свободу, равенство и братство и что, когда американская демократия восторжествует во всех уголках мира, наступит наконец всеобщее благоденствие. Герман слушал ее размышлизмы, и ему было смешно. Свои чахлые, но все-таки философские постулаты Сара выражала таким простецким языком, что сами они становились плоскими и наивными, как детский лепет. Герман уже уловил огромную разницу в языках, родном и америкосском. Любое понятие, для которого в русском находилась уйма слов с различными оттенками, например, «домашний очаг», «камин», «камелек» и даже «печка» или «костер», у америкосов обозначалось просто, без затей, как единое «место для огня». Функционально, но скудно. Поэтому то, что в русском было высоко и таинственно, полно нюансов и полутонов, в американском выглядело пошло и мелко, словно мультяшка про Ветхий Завет или куплеты про сотворение мира. Убежденность и воодушевление, с которыми вещала о величии американской демократии Сара, напомнили ему страстность отчетов яростных доярок и шахтеров на торжественных пленумах ЦК КПСС. «Господи, неужели американцы — это мы, только вывернутые наизнанку? — подумал Герман. — Та же высокомерная убежденность в единственноправильности своего пути, те же слепой угар и жажда господства, только лозунги другие». Сара между тем продолжала с жаром разглагольствовать, привстав от возбуждения и облокотившись о Герино плечо.
— Я послала резюме и докладную записку в Мировой банк, хочу получить грант для дипломной работы, — похвасталась она.
— Докладную записку о выеденном яйце? — по-русски осведомился Герман.
— Что? — не поняла девушка.
— Я говорю, а если другие не захотят?
— Что не захотят?
— Жить при американской демократии. Им, например, монархия по душе или диктатура.
— Ерунда. Это просто отсталые государства, которые немного заблудились, но мы их выведем на широкую дорогу прогресса.
— Силой?
— Любыми силами. Главное, чтобы идеи демократии восторжествовали. — И, видя, что Герман ухмыляется, холодно добавила: — Тебе как эмигранту должна быть особенно понятна моя любовь к демократии, ведь именно ради этих демократических ценностей ты бежал из своей страны.
— И сколько же стоит приобщиться к этим непреходящим ценностям? — Герман решил отвести разговор от взрывоопасной черты.
— Не знаю точно, может, долларов восемьсот. Надо у отца спросить, — буркнула Сара, но тоже не стала продолжать спор.
— У меня все равно осталось только пятьсот баксов. Выходит, один старый хрен надул меня почти наполовину. А что, твой отец в этом смыслит?
— Он тоже юрист. Вернее — я тоже. Занимается оформлением грин-карт и других документов. Ты же меня встретил у его конторы.
— Так Сэм Вайсман — твой отец? Ни фига себе! Я как раз к нему на днях собирался, хорошо, что предупредила.
— Все равно придется. Он хочет с тобой поговорить о наших отношениях, — скороговоркой пробормотала она и снова сменила тему. — А ты знаешь, есть еще один способ… — Она замолчала, вопросительно глядя на него, не решаясь продолжить, потом превозмогла себя, вздохнула: — Можно провести тебя по еврейской линии. Похлопотать, чтобы тебе пришла справка из московской синагоги, что у тебя мать еврейка, пройти процесс инициации.
— Процесс инициации? — переспросил Герман. Это словосочетание вызывало у него неприятные воспоминания от чтения того места в «Войне и мире», где Пьера Безухова посвящали в масоны. Что-то темное, душное навалилось на него и отпустило, словно летучая мышь крылом задела.
— Тогда бы тебя приняла еврейская община, — продолжила Сара, — дала бы подъемные. Ты бы пожил среди нас…
— Нашел бы себе хорошую рыжеволосую и очень умную девушку, женился, пошел работать помощником на фирму ее отца, нарожал бы кучу смышленых рыжих карапузов и был бы счастлив. Правда? — закончил за нее Герман и заглянул ей в глаза. Глаза Сары были как большие прекрасные звезды.
— Правда, — едва слышно прошептала она.
В конце осени, почти через полгода после первого, пришло еще одно письмо, такое же странное, как предыдущее.
Я хотела бы жить вечно. Я хотела бы быть ветром.
Чтобы взвиться песчаным смерчем, донестись до твоего порога и
свить тебе дюны с нежнейшими изгибами ложбин.
Я хотела бы жить вечно. Я хотела бы быть ветром.
Чтоб ворваться в розарий летний и вернуться розовым смерчем,
припорошив дюны у твоего порога легчайшими лепестками.
Я хотела пасть мертвой прямо сейчас, в это мгновенье.
Чтобы остаться с тобой навсегда смелым ветром.
У слабых людей все проходит. Усильного ветра впереди вечность.
«Зачем она меня мучит?» — растерянно подумал Герман и перевернул страницу.
Лето распустилось мощно и неожиданно, словно пышный пион за одну теплую ночь. Оно плавно покачивалось на стебле вечности, разнося повсюду радужные трели: «Все уже в цвету! Все уже дышит и поет полной грудью! Все уже ликует и упивается
влагой желаний!» Казалось, , этот легкий, веселящий душу перезвон будет звучать у тебя в ушах всегда. У пиона так много язычков розового пламени! Он так смел, прекрасен и бесшабашен. Он избыточен и роскошен
в светлом мареве лепестков. Но вот однажды ты, сладко позевывая, выходишь на веранду и видишь, что уже ставшие привычными для глаз розовые шапки сорвались, как слишком самонадеянные канатоходцы, со стеблей вечности и разбились вдребезги, усыпав землю миллионом розовых осколков. Встревоженно спешишь с крыльца и удивляешься, что за изобилием пионового цвета ты и не заметил, как вытянулись астры, и их сомкнутые темно-зеленые головки уже просвечивают нежными бледными макушками. Лето, лето! Как ты могло давать такие беспечные обещания! Как ты могло! Зачем ты нежило нас пустыми словами о том, что будешь вечно? Зачем клялось нам, смеялось грудным смехом, зачем ластилось и обнимаю колени? Как это жестоко — не сказать, что ты всего лишь отчаянный канатоходец, делающий умопомрачительные сальто на стеблях вечности, без страховки под куполом и спасительной сетки на арене!