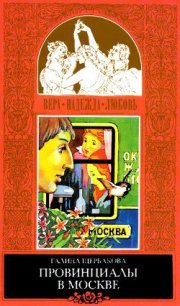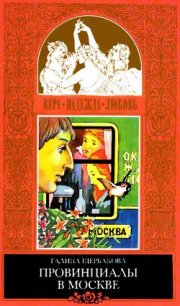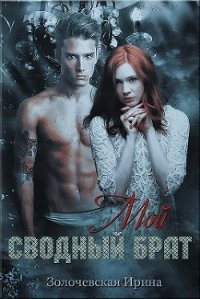Лизонька и все остальные - Щербакова Галина Николаевна (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
– Есть кто? – услышала она голос. – Я все дыма ждала. Вижу – идет, значит, встали…
На пороге летней кухни стояла женщина. Страшный, несоразмерный ничему протез бестолково торчал у нее из-под юбки, сама же она держалась на костылях.
– Я – Евгения, – сказала женщина. – Я пришла за Шариком.
…Шесть лет тому назад Дмитрий Федорович испытал первые трудности в уборной. Еще не было болей, просто надо было долго ждать, пока медленно, с перерывами выходила из него какая-то вялая, ленивая моча, и процесс, до этого простой, легкий и безмысленный, стал мыслью, болью и беспокойством.
«Ага, – сказал он себе, – ага… Значит, умирать от этого». Казалось бы – испугайся, но страшно не стало, а стало определенней, что было, конечно, глуповато: не мнил же он себя бессмертным? К тому времени он уже хитрым макаром раздвинул оградку и знал, что две могилы на старом кладбище поместить будет можно. Никуда начальники не денутся. Пришла тогда какая-то очень деловая мысль: хорошо бы Нюре умереть раньше, чтоб он все сам с ней сделал, показал детям, как надо, чтоб они потом уже с ним не путались. Но деловая мысль ушла, наверное, именно потому, что была деловая. Она, мысль, раньше сообразила, что скорей всего будет иначе, и Нюра его переживет. Вот именно тогда он стал делать записки в общей тетради в клеточку на тот самый случай, когда его не станет. Нюра останется одна, растеряется, бедняжка, а умом своим сообразить, что и как, не сумеет. В бумагах он оставлял свой ум на будущую Нюрину вдовью жизнь. Когда он все написал, что хотел, неожиданно получилось много, потому что одно потянулось за другим. Наказ Нюре покупать наливку только у Семенихи, а ни в коем случае не у Бойчихи, которая сроду вишню не моет и у нее в десятилитровой стеклянной банке вишня очень хорошо настаивается вместе с мухами, пчелами, листьями и сучками, сам однажды видел, когда она цедила наливку, чтоб поставить ее на стол, и попросила его поддержать банку за дно, после чего ему пришлось у нее пить разведенный спирт, в котором он тоже уверен не был, спирт приносил с работы зять-механик, и был спирт цвета подозрительного, но все равно это показалось лучше настоянных мух, от воспоминания о которых его начинало так тошнить, что приходилось осаживать содой собственную муть. Так вот, написал он про наливку и тут же вспомнил, как хотел повеситься в кухне. Зачем-то написал и это. Но тогда надо было объяснить, с чего это вдруг он решил покончить с собой, потянулась цепочка старых его мар-видений о том, кто как умрет. Короче, чего только не написал он в общей тетради. Похоронить Нюру велел в сиреневом платье, потому что она сдуру ляжет в черном. А он считал – это будет неправильно. Идти в светлый мир надо в светлом, и сиреневое платье, пусть старенькое и узкое, спинку можно разрезать – самое то. Носить старухе вроде уже и не пристало, но в гробу лежать хорошо. А то ведь дуры-дочки вырядят в черное, тем более что глупая женщина даже бережет такое черное платье специально. Он его однажды хотел выкинуть, но Нюра испугалась и куда-то перепрятала. Многое написал старик, и писал до последнего дня, не зная, что за чем потянется, одно у него было беспокойство – кому? Кому адресовать этот свой оставшийся ум? Дочек он отмел сразу. Чтоб не поссорились. Начнут по каждому его слову спорить, и он еще виноватым окажется. К тому же, раз из него пошло переть непредсказуемое заранее, всякие там подробности и воспоминания, то совсем показалось не гожим, чтоб дочки это читали. Леле не понравилось бы, что он рассказал, как она любила в детстве прийти, пукнуть в Ниночкиной компании и смыться, а бедные девочки потом, не знали, на кого думать, а на мальчиках от неловкости просто лица не было. Ниночка отловила как-то Лелю и так ее стала бить, что, не окажись он рядом, убила бы. Леля после этого даже немножко заикалась, а у Ниночки вырос длинный седой волос на виске. Нет, все это должно попасть в руки внучек, Лизоньки или Розы. Роза, правда, последнее время злая стала девочка. У нее злость родилась, как у других рождаются дети. И родилась эта злость здесь, у них в доме, на их родительской постели, он, можно сказать, был повивальной бабкой при этом странном деле.
Было так. Заехала она как-то к ним проездом то ли на курорт, то ли обратно. Обратно. Черная была от южного солнца, как головешка. Бухнулась на кровать, любила она на их кровати поваляться. Я, говорит, тут восстанавливаюсь. Ну, восстанавливайся на здоровье, не жалко, только сними покрывало и накидку и сложи аккуратно. И на спинку повесь, да не абы как, комом, а сначала одеяло, а потом накидку, накидка же легкая, под одеялом она помнется.
Легла Роза, а они сели на стулья рядом, хорошо сели, радостно, такая Роза умница, заехала, не побоялась сделать крюк, небольшой, правда, но все-таки шестьдесят километров от магистрали вбок.
Она, Роза, возьми и спроси, первый раз за всю жизнь:
– А какая у меня была мама?
Ну! От Нюры прямо пар пошел. Она ведь Розину маму так не любила, так не любила, это даже мягко сказано, хотя дело, конечно, прошлое, такое прошлое, что старик стал вспоминать и никак не мог вспомнить, а как она выглядела, эта вторая жена первого мужа Ниночки?
– Я тебе расскажу, – начала Нюра. – Вот тут ты сидела, а Ниночка тебя под нуль стригла. Ты орала как резаная, и Ниночка заткнула тебе рот полотенцем. Ты красная стала, глаза выпучились, ну, а что оставалось делать? Спасать же надо было. Мама твоя, Ева, она сюда к нам приехала по назначению в школу. Она ходила в юбке и блузке, никогда я ее в платье не видела, а волосы у нее тоже были кучерявые, но не мелким кольцом, как у тебя, а крупным. Когда они шли вместе, твой паразит-отец, будь он проклят, и твоя мать, царство ей небесное, то они смотрелись хорошо. Такие оба высокие, фигуристые. Ниночка, правду сказать, с Ванькой не смотрелась, она у нас мелкая, сама знаешь, она была ему под мышку, и шаг у нее тоже мелкий, а у того крупный, получалось, что Ниночка за ним бежит, как собачка, – противно. Мы ей это сразу говорили. Он вообще был бабник, он бы и с твоей мамой долго не жил, это точно, у него с женщинами дело быстрое. Что называется, не было бы счастья, да война.
– Что ты такое лопочешь? – сказал старик Нюре. – При чем тут война, тем более в таком глупом словосочетании…
– Я только в одном смысле, – упрямилась Нюра. – В смысле перспективности этой семьи. Разве ты его не знал? Он же два пишет, три в уме! Нет, что ли?
– Роза спрашивает нас о другом.
– Пусть говорит все, – сказала Роза. – Не перебивай ее, дед.
– Вечно он мне затыкает рот. Всегда я у него дурочка. А я с Евой, мамой твоей, разговор имела, перед тем самым днем, как их всех увели. Уже было объявлено, и которые глупые евреи, то они собирали дорогие вещи на длинное путешествие, а Ева была умная женщина.
– И когда ж это ты с ней говорила, что я этого не знаю? – Старик хмыкнул, потому что решил: Нюра придуманной историей хочет скрыть факт, можно сказать, исторический – как она терпеть не могла Еву, потому что считала разлучницей. А это была чистая брехня, потому что уже за полгода до Евы Ниночка хлопнула круглым кулачком по столу и сказала: «Хватит с меня! Нажилась… И чтоб мои глаза его больше… Ни-ког-да!»
Лично он, старик, тогда испугался вот чего: не пойдет ли Ниночка по мужским рукам, как это бывало с другими разведенками? И кое-что с ней было, чего греха таить? И морду ей пострадавшие женщины-жены били, и его на базаре прилюдно за нее стыдили. Плохое было время, если вспомнить. До сих пор лицо запаляется. Все тогда совпало в минусе, и Колюнин скорый отъезд, и эта сволочь Уханев, и Дуськин арест, и вообще весь воздух жизни был мутный. С Ниночкой крепко пришлось объясняться. Позвал ее на пасеку. Не пойду, кричала, я их боюсь. Пчел, в смысле… Но он ей так спокойно, выдержанно сказал:
– Не того ты, дочка, боишься в своей жизни… Не того… Надо бояться стыда жизни, а не укусов полезных насекомых.
– А что я? Что? Я птица вольная!
– А вольная – лети! Земля у нас большая, есть где приземлиться. Но тут, под нашей общей крышей, я блядство не позволю.