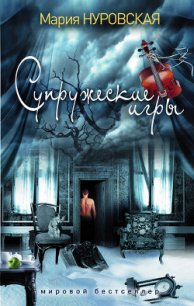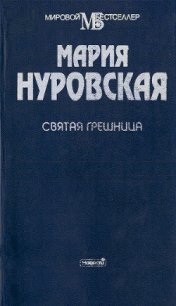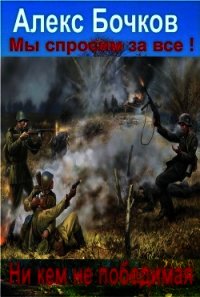Другой жизни не будет - Нуровская Мария (книги серия книги читать бесплатно полностью .TXT) 📗
Ох уж этот Казик. Губы еще ищут соски мои, а во мне такая сладость разливается, просыпаются воспоминания: как ребенок грудь берет, как мужчина… Я лежу, а слезы струятся по вискам, волосам. Да, да. Войди в меня, я жду. Никого я так не ждала. Но как же все поздно, как поздно. Нельзя мне быть счастливой, граната взорвется. Да и пусть взрывается, пока все это происходит. Столько лет, столько пропавших лет… если бы это был тот, кого люблю… заменить бы мое сердце, чтобы для этого человека билось, а не для того… Все не так, не так…
— Ванда, хорошо тебе? — шепчет.
И во мне такая благодарность к этому мужчину. Зачем слова? Тело мое за меня говорит.
Вернулась я от Казика успокоенная, ближе к этому свету, чем к тому, и вокруг все стало нормально. Ночью хорошо спала, но через несколько дней опять то же самое.
Ноги у меня опухли, Янка мне говорит, что-то с икрами не в порядке. У меня в глазах сразу потемнело, на что бы опереться. А она смеется. Наконец я взяла себя в руки: едем в больницу! Зачем, еще целый месяц? Затем, и так на Янку смотрю, что ее улыбку словно рукой смело. Не знает, слушать меня или нет. Может, Стефанка подождем? Никакого Стефанка. Первый раз на нее голос повысила, так что она послушалась. В машину, едем. Я веду. А она, мол, Стефанек решит, что мы две истерички, не любит он этих бабских выкрутасов. Ты на него не смотри, самое время о себе подумать. Мама, вы все в плохом свете видите. Может, это и так.
Ее сразу забрали. А мне: пожалуйста, возвращайтесь, она тут останется. Я подожду, говорю. Хоть целую ночь. Стефанек меня нашел, я в углу прикорнула. Хочет домой отправить, а я только головой мотаю. Тут останусь. Он: нет необходимости, за ней ухаживают. А ты, мама, только себе хуже сделаешь. Ну, что со мной будет? Возвращайся, сынок, ты ведь тяжело работаешь. Как я вообще работать могу, говорит, вы же обе с этим ребенком с ума посходили. Столько их рождается, одним больше, одним меньше. О себе должны думать, обязаны. Кого же это я родила? Что у тебя вместо сердца, камень? Я просто думать умею, отвечает. Ты наперекосяк думаешь или все это от меня перешло? Только как-то в другую сторону. Сел рядом, за руку меня берет: вот новость, мамочка кричать научилась. И зачем все это? Не все ли тебе равно, где ты переживать будешь, тут или дома? Я ему: хоть один раз не решай за меня, разреши самой выбрать. Иди, занимайся своими делами. Он только головой качает. Руку мою из своей не выпускает. А меня жалость такая охватила, ведь он же там, с нею, должен быть и тепло, что мне дает, ей предназначено. Может, ты к жене пойдешь, хоть покажись ей. Ей нужен покой, отвечает. Ее покой с тобой остался, говорю. Встал. Раз посылаешь меня, мамочка, я пойду, только я свое знаю. Мало ты, сынок, знаешь или не хочешь больше. Надеюсь, что первое. А он палец к губам прикладывает: тихо, я тут для тебя, мамочка, койку поищу. Иди уже, иди“.
Развод с Мартой. На этот раз еще и проблема с квартирой. Он должен был спрятать свои амбиции в карман и просить старых приятелей, чтобы ему помогли. Невозможно было жить вместе. Марта стала невыносима, приводила мужиков, не считаясь ни с мамашей, ни с Михалом. Не говоря уже о нем. Полгода продолжался этот кошмар. Переехала в выпрошенную им однокомнатную квартирку. Тогда он понял, как неприятны унижения. Был уже маленьким человеком, ничего от него не зависело. Другие люди принимали решения — ужасные, как оказалось в итоге. Было что-то забавное в его нынешнем положении. В те первые годы царила иная атмосфера, при всех ошибках и искривлениях ясно было, к чему они стремились. Сейчас, по прошествии времени, он мог это признать. Случалось, что страдали невинные. Ну, что же, среди людского моря попадались и глупцы. Возникали идиотичные распоряжения. Как, например, все в те времена было секретно или совершенно секретно. Каждая самая пустяковая бумажка с печатью должна была находиться под ключом. В случае проверки и доказательства преступления виновные представали перед судом. В память врезалась одно такое дело. Начальник почты, а точнее, ее филиала в забытой Богом дыре нанял уборщицей свою тещу. Как-то под вечер женщина взяла тряпку с ведром и повернула ключ, не отдавая себе отчета в том, что это означает год тюрьмы для ее зятя. В то время как она ползала по полу с тряпкой, в помещение вошел человек из ведомства Кровавого Владека, они тогда всюду принюхивались. Сразу высмотрел противопожарную инструкцию, лежащую на столе. Тут же состряпал вещественное доказательство, заверенное печатью и подписью подполковника пожарной охраны. Жена пострадавшего попала к Ванде, а та проводила ее к нему. Он обещал помочь, но когда обратил внимание Владека, что они перебарщивают, тот лицемерно поднял палец вверх и сказал:
— Враг не дремлет.
„Не спасли ее, а ребенок за свою жизнь борется. Хожу я от стены к стене, как будто в руках свечку держу и пламя оберегаю. Погаснет — все потеряно. Стефанек руки мне целует и просит, чтобы я присела, чтобы ноги свои не утруждала. А мне тотчас в голову ударяет, что свечка из-за этого погаснуть может. Не разрешили мне с девочкой моей попрощаться, глаз ее сапфировых поцеловать. Сестра Галины и Казик у нас теперь сидят, не дали мне слова сказать, просьбу моего сердца не услышали. А оно хотело, чтобы до Янки никто посторонний не дотрагивался, чтобы мои руки ее одели и на дорогу обласкали. Смотрю на этих людей, которые как семья моя, на сына смотрю, сил разговаривать нету, а они будто бы глухие и слепые. Зачем они хотят оберегать мою жизнь, которая будто сорная трава по земле ползет, корни мелкие, а как зацепились. Плохо себе сделаешь, Ванда, ей уже не поможешь, а на себя несчастье навлечешь. Глупые люди, ничего не понимают.
Как только все ушли и мы со Стефанком одни остались, как-то свободно стало. Только он и я, и пустота от того третьего, самого любимого мною человека. Теперь я это точно знаю. Постоянно думаю о ребенке, мальчик или девочка. Я просила, чтобы не говорили, пока на том свете Янка не будет хорошо принята. Теперь главное для меня — это ее ребенок. Потом, может, внуком, сыном сына станет, если мальчик. Лучше, чтобы мальчик. Ее никто не повторит. Одна была такая, эта доченька месяца и дождика…
Первый раз вышла в супермаркет за покупками. Стефанек, по-моему, специально этой негритянке пани Пирс выходной дал, чтобы меня к жизни вернуть. Машину запарковала, тележку беру, иду вдоль переполненных полок. Корнфлексы с миндалем, уже рука к ним тянется. И мысль. Зачем? Для нее бы пригодилось. Стефанек не любит. Иду дальше. Неожиданно себя в витрине вижу. Я, не я. Это ж какая-то старуха сгорбленная. Рухлядь рухлядью. Меня аж передернуло: как же я сейчас выгляжу! Этих двух месяцев хватило. Казик тоже, кажется, понял, позавчера сестра Галины пришла заплаканная. Жалуется. С ума сошел. Двадцатилетнюю себе нашел. Дочкой бы ему могла быть. С ним-то все ясно, но она-то — к старику?! У людей по-разному жизнь складывается, говорю. Будешь ты плакать или нет, все едино. Когда-то по-другому бы ей сказала, теперь только так могу. О Казике думаю, как о постороннем. То короткое время, что с ним провела, для меня, как годы, куда мне теперь до него.
Жду, когда внука Стефанек привезет. Полгода уже он в этой больнице. Привези его домой, говорю, мы его быстрее выходим. Сначала, мамочка, себя выходи, тогда поговорим. Сейчас некому ребенком заняться, да еще таким больным. Может, он и прав, я должна за себя взяться.
Те неземные деревья свое обещание почти что выполнили. Вот меня уже и с сиреной везут. И мир весь передо мной красным заволокло, а голоса и люди в той красноте вязли, затихая. Вдруг я глаза открываю и стены белые перед собой вижу, а рядом с кроватью сын сидит.
— Мама, ты меня слышишь? — спрашивает.
А мне показалось: ты меня слышишь, Ванда? Всегда сына ради Стефана, мужа моего, отталкивала, всегда в нем его хотела видеть, но так ведь не могло быть, а сердца на сына не хватало.