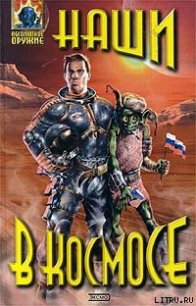Гербарий (СИ) - Колесник Юна (книги полностью txt) 📗
— Я здесь не останусь! А случись с Тёмкой чего? Ты фонарь заберёшь, так? Без него ноги переломаешь. А я здесь в темноте не смогу! И дольмены эти…
— Идите вы оба со своими дольменами!..
И вот сижу я тут, на тропе, скрюченный, вдоха не сделать. Фонарик светит в куст ежевики. А эти придурки стоят на самом краю. Мне их лиц не видно, но знаю — смотрят по-разному. Чиж на неё — почти как на врага, а Милка… Она, наоборот, затравленно и уже по-другому, не так, как раньше. И спорят: кому идти, кому остаться. А я понимаю, что если она согласится тут со мной сидеть, то всё, ни черта у них больше не выйдет, ревнивый он, друган мой. А если мы её одну отпустим туда, вниз, в ночь, то какие мы нафиг мужики?..
Встаю, цепляясь за камни:
— Пошли. Все вместе пошли. Справлюсь.
А Милка заплакала. Первый раз я видел, как она плачет.
Короче, встал я кое-как, уцепился за его плечо, побрели вниз. Впереди Милка с фонариком и рюкзаком, потом мы.
А потом поехала нога на валуне, резко дёрнулся, и как скрутило, думал, зубы искрошу. Не помню, заорал или нет. И всё — темнота.
Очнулся я не от боли, от сырости. Вода, вода… Льётся, шумит, клокочет. Бьёт по голове, стекает за шиворот. Чуть пошевелился — и боль вернулась сразу.
— Живой? Тёмыч, ты живой? Держись, братан, держись.
Чиж рядом, вот плечо его. Наощупь тянусь к нему, толкаю, мол, нормально. Понимаю, что сижу, прислонившись к чему-то твёрдому, надёжному. Вокруг темно, потоки воды льют куда-то вниз, грохочут. Цежу сквозь зубы:
— Куда ты меня… приволок?
— Куда надо. Сиди, не дёргайся. Милка вниз удрала, пока я с тобой возился. Я тебя ещё ниже метров на сто оттащил. Не спрашивай как. Но потом дождь хлынул.
— По прогнозу не должно бы… я смотрел.
— Хреново смотрел! А с горы с этой смыло бы нас, как котят. Но смотрю — тропка вбок и камень этот здоровый, хотя бы ровно около него. Не скользко. Вот и дотащил тебя.
Я понял, где мы. Выходит, в долгу я теперь перед тобой, Никитос. Да, вот так братанами и становятся.
Ливень нарастал. Чиж матерился в голос — всё равно эту грозу не перекричать — он остался без сигарет, и даже вечные его два коробка спичек вымокли насквозь, превратились в кашу.
Боль накатывала спазмами. Я зубы стискивал, чтоб не орать, лечь было невозможно — захлебнёшься. Он пытался усадить меня, голову хотя бы прикрыть, что-то ещё говорил, но сквозь грохот дождя я различал его через слово:
— …Прорвёмся, Тёмыч… Глыба-то тёплая, чуешь?
— Нет. Слушай, Чиж.
— Ну?
— Эта каменюка — Лунный камень, отец рассказывал. Если я сдохну, ты Олеську привези сюда.
— Кого-о-о? Ты нормальный?
— Хорош, а? Я без неё никак, — и только сказал, так и выгнуло меня снова в дугу.
— Тёмыч. Слушай сюда. Ты мне всякую чушь не городи, потом жалеть станешь. Ночь эта — не вечная. А с Олеськой уже пол-универа переспали.
— Заткнись.
Знаю я про неё. И про Лазарева знаю. Да ведь и про меня тоже все знают. Тёмочка, смазливый мальчик, девок меняет как перчатки. Так ли оно? Видимость… И девушка-москвичка — видимость, и старые фотки — и те не с моей, а с очередной Антохиной пассией.
И снова боль. Да сколько можно? Люди в горах руки-ноги ломают, а я, недоделанный, с желчным свалился. Что ж у меня всё не так-то, а?
Говорить я уже почти не мог, изнутри будто кромсали заживо, единичные спазмы слились в один постоянный. Хотелось только одного — биться затылком об этот камень.
— Ну чего, дурно? — Чиж снова тормошил меня.
— Нет, бля, зашибись.
— Терпи. Милка наверняка до дождя успела. Теперь на уши весь поселок поднимет.
— Поднимет. Надёжная она. Женишься?
— Тёмыч… Она больше как друг мне. Разные мы.
— Одинаковые. Женись, говорю.
— Женюсь, братан, женюсь. Как скажешь.
Не верил я ему. Он поддакивал просто. Просто потому, что плохо мне было, потому что не знал — дотянем мы до утра в горах или нет. Молнии… Или искры от проводов, не разберёшь. И уже ничего не разглядеть в этом буйстве, словно огромный великан злится, куражится… И опять — провал. Только голоса какие-то, голоса…
А когда я веки разлепил, вокруг — стены белые… И эти двое стоят. Ей-богу, как на похоронах, рожи скорбные. Хотел такую же скривить — нет, не вышло. Зажмурился. А Чиж вдруг выдал, но не мне, Милке:
— Мышь, — говорит. — Как из палаты выйдем — ты Новиковой набери.
— Кому?..
— Олеське позвони, говорю. Пусть едет, летит, ползёт. Как угодно. Но чтоб тут была, завтра же. Фиг знает, почему операцию отменили.
Вы не пробовали лезгинку станцевать на больничной койке? Нет? А у меня почти получилось!
Примерно так, опуская слишком откровенные подробности и диалоги, Артём расскажет родным эту историю, когда вернётся из больницы. О спорах врачей перед его выпиской он не узнает. Лечащий врач, хирург, принимавший его утром, ближе к обеду старательно расправит сложенную вчетверо бумагу, чтоб показать её другому доктору:
— Вот, пожалуйста! УЗИ от марта месяца, родственники в его документах нашли. Вы булыжник этот видите? Как он вообще с ним жил? Почему не удалил? Вот был у меня пациент с врождённым отсутствием желчного, и то лучше, чем такое в себе носить…
— Мистика какая-то, — пожмёт плечами заведующий отделением, сравнивая снимки. — Словно два разных человека… Но по симптомам и анамнезу — ночью явно было обострение желчнокаменной болезни.
— Коллега! Мы его сегодня трижды на аппаратах смотрели — чисто. И анализы как у младенца. Абсолютно здоров. Шок, переохлаждение — не больше.
— Да не бывает такого… Впрочем, что мы тут с вами друг другу голову морочим? К вечеру отпускайте парня. Купаться надо, загорать. Жару обещают…
III
А к вечеру Олеся будет уже в дороге. Она поедет почти автостопом. Всего за полдня — от короткого Милкиного звонка до урчания чужой машины — она сделала немыслимое: нашла в сети мужичка-попутчика, уговорила бабулю, чтоб та не звонила матери, сбегала к соседке, попросив помочь с домом и огородом, наобещав золотые горы. Закидала что-то бесполезное в сумку. Потом ухнула почти половину отложенных денег на длинное белое платье со странными неземными цветами. Платье, которое висело в их мрачной сельской лавке года полтора.
И теперь она едет. Дядька за рулем почти земляк, он торопится к семье в Адлер, подпевает «Рок-островам», сетует на тёщу-липучку и на дурного шефа, что задержал отпуск. И она успокаивается. Дремлет почти всю дорогу, доверчиво свернувшись на заднем сиденье. Боясь проснуться, боясь осознать, что снова делает глупость. «Ты нам очень нужна, Олесь». Просто звонок. Но там, за тысячи километров, там он, Артём, который каким-то чудом подарил им, своим друзьям, море. Девки из группы завидовали, а она смахивала упрямые слезинки. Лето же, как она может бабулю оставить? Николай Савельич уже лет пять обещает скважину, чтоб вода в доме была, а всё никак.
Но это мелочи. Сейчас сквозь сон поёт о кострах старичок Захаров, поёт Брянцев, Лепс, поёт Ёлка. Пусть, пусть глупость. Ей сказали: «Ты нужна. Артём в больнице». Вот она и в пути. И она не думает о плохом. Ни о чём не думает, копит силы.
Когда за окном начинают мелькать пальмы, она не успевает переодеться. В мятых спортивных штанах и короткой майке попадает на тенистый двор, вертит головой. Бежит навстречу ей осунувшаяся Милка. Выходит под навес Никита, простуженный, со ссадинами на виске. Кашляет, сморкается в платок и там же, в стариковском клетчатом платке, прячет улыбку. Люди, дети, а за ними всеми — его, Артёма, белая рубашка. Он пробирается к ней и бормочет какую-то чушь про ежевичные кусты. Сумбурно, не понять. И она просто тает — от того, что он здесь, среди родных, а не в больнице, тает от радушия, от воздуха, от колючек во дворе, от запахов острой еды, которую за шумным столом он пробует осторожно, как и она. Потом, после ужина, медленно плавится от страха, слушая, как парни застряли в горах. Плавится, вмиг растеряв всю свою язвительность, тает… и никак не может поймать его взгляд.