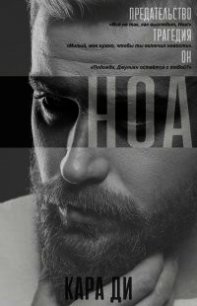Ревнивая печаль - Берсенева Анна (книги .TXT) 📗
Глава 9
Лера открыла глаза и увидела над собою белый больничный потолок. Она сразу поняла, что больничный, хотя ведь все потолки белые…
Она совершенно не помнила, что с нею происходило недавно, но зато помнила, что было перед тем, как ей стало плохо в маминой палате. Только вот не знала, недавно это было или давно: ощущение времени у нее совершенно сдвинулось.
Но ощущения собственного тела медленно возвращались к ней, и главное среди них было – тягучая, как движения пилы, боль. И сквозь эту боль, сквозь странный угарный шум в голове Лера чувствовала пустоту, которой была охвачена изнутри, – пустоту и молчание.
Ребенок не двигался и не бился, этого невозможно было не почувствовать.
Перед глазами у нее стоял туман, она ощущала какой-то дурманящий, сладковатый запах и не могла понять, что же произошло. Ребенка не было в ней – значит, он родился?
– Кто у меня родился? – произнесла она вслух, хотя рядом с ее кроватью никого не было. – Мальчик?
– Мальчик, мальчик, – услышала она молодой женский голос. – Будет у тебя еще и мальчик, и девочка, все у тебя будет!
– Что значит – будет? – заплетающимся языком спросила Лера. – Кто сейчас у меня родился?
Сквозь пелену перед глазами она увидела молодую стройную женщину в белой высокой шапочке, стоящую теперь рядом с ее кроватью. Лера почти не различала ее лица, только ярко накрашенные губы.
– Сейчас – никто, – спокойно ответила медсестра, наклоняясь над Лерой; шприц блеснул в ее руке. – Скажи спасибо, что сама жива осталась! Случись на улице…
– Что со мной сделали? – Лерины губы по-прежнему двигались медленно, онемело.
– Да ничего с тобой никто не сделал, – усмехнулась медсестра. – Операцию тебе сделали, да вовремя, а то бы ты сейчас не разговаривала. Ладно, ты отходи пока от наркоза-то. Зови, если что.
Наркоз проходил медленно, и так же медленно усиливалась боль, но Лера не обращала на нее внимания. Спокойный голос стройной медсестры звучал в ее ушах как жуткий приговор.
Она была одна в этой палате, но из-за двери доносились голоса, обычный больничный шум, к которому Лера уже успела привыкнуть. И чувствовала, что это становится всеобъемлющим: этот шум, белый потолок, запах лекарств – и отчаяние.
Вскоре Лера уснула – наверное, действие наркоза еще продолжалось, или укол был какой-то сонный. А когда проснулась, в палате было темно. Туман перед глазами развеялся, превратившись в обычную головную боль и тошноту, и сознание стало ясным.
Но это и было самой большой мукой!
Теперь Лера помнила и осознавала все совершенно отчетливо: смерть матери, потерю ребенка – безысходность всего, что произошло. И если мамина смерть была мучительна, тяжела, то неожиданное завершение беременности – это было совсем другое…
Это была не вообще какая-то беременность – некое состояние здоровья, которое врачи наблюдают, подсчитывая недели и месяцы. В этом была ее душа, этим она была связана с Митей, – и Лере казалось, что она не сможет пережить этот обрыв, оставляющий ее в полной пустоте.
Она хотела этого мальчика так же самозабвенно, как любила Митю, – и не суждено было… А ей казалось, что теперь жизнь наконец-то стала простой и ясной, что больше не будет тех мучительных разочарований, которых она с избытком хлебнула в одиночестве!
Сейчас, в темноте больничной палаты, чувствуя в себе только пустоту и боль, Лера поняла: слишком многое сильнее ее. Смерть – сильнее, разрушение – сильнее, и тяжести жизни ей по-прежнему не одолеть.
Мити не было с нею, и не могло его быть в том невыносимом одиночестве, в которое она все равно вернулась. Никто не мог ей помочь, и он не мог…
Она застонала и закрыла глаза, совершенно раздавленная и уничтоженная этой непосильной тяжестью.
Больница, в которой она так неожиданно оказалась, была самая обыкновенная, но теперь это было Лере все равно. Раньше, когда она думала о мальчике, имело смысл прислушиваться к советам, перестраховываться, выбирать условия получше.
А сейчас – зачем? Какая разница, сколько человек в палате, далеко ли туалет и что дают на обед? Все равно у нее не было аппетита, и она с одинаковым равнодушием смотрела и на серые больничные котлеты, и на румяные отбивные, которые приносили ей в передачах Валя, Зоська, тетя Кира.
Вся она стала какая-то равнодушная, застывшая. Из послеоперационной палаты ее перевели в общую, обещая, что скоро выпишут домой. Но и это было Лере почти все равно.
Она даже не заметила, что «скоро» почему-то растягивается, что кровотечение у нее все не прекращается, а лицо палатного врача делается с каждым обходом все озабоченнее.
– Тебе бы лепестков пионовых надо заварить, – посоветовала Рита, лежащая на соседней койке. – Мне свекровь всегда говорила: от женских кровей первое дело – пионовые лепестки!
Рита лежала здесь с шестым выкидышем и, кажется, чувствовала себя в больнице лучше, чем дома.
– Да брось ты, Ритка, – пионы! – хмыкнула вторая соседка, Маша – молоденькая и веселая девушка, чрезвычайно довольная тем, что ее «залет» кончился так удачно. – Ей вон чего только не колют, и ничего, а ты – лепестки какие-то. Нет, тут уж надо лежать и не рыпаться. Да повеселее ты, Лерка! – бодро обернулась она к Лере. – Ну подумаешь, выкидыш! У тебя ж есть уже, зачем тебе еще? По мне, если б мужик не настаивал, так я б еще ой как подумала рожать. Какая теперь жизнь пошла, ты посмотри только! И ресторанов полно, и шмоток всяких. Живи да радуйся! Так нет, ему надо, чтоб я в халат влезла и с детенышем дома засела как на цепи. Не-ет, больше я дурой не буду… Таблетки – это он мне, конечно, не даст: он аж как-то обыск настоящий устроил, почему не беременею. А вот спираль – это я поставлю, пусть попробует уследит!
Прежде Лера с ума бы сошла от таких разговоров, но теперь она и к ним почти не прислушивалась. Она словно погрузилась в глубокую воду, из которой невозможно было вынырнуть, – и сама не понимала, когда это произошло.
Самое тяжелое было – видеть Митю. Он приходил, Лера с трудом выходила к нему в коридор, они садились в холле, где стоял телевизор. В это время, вечером, женщины обычно смотрели какой-нибудь сериал и шикали на всех, чтобы не пропустить ни слова.
Лере хотелось что-то сказать ему, но она не могла. Да и что можно было сказать – вот так, под телевизионные рыданья, среди чужих и равнодушных людей? Чувства ее притупились за это время, словно она была обернута ватой.
Однажды вечером они в который раз сидели на обитой дерматином скамейке в холле. Митя держал Леру за руку, но она только физически чувствовала его прикосновение – собственная кожа казалась ей резиновой, и голова привычно кружилась.
Мимо них торопливо прошла женщина из соседней палаты.
– Ниночка, у Петренко из восьмой выкидыш! – громко кричала она на ходу, обращаясь к дежурной медсестре.
Стройная Ниночка выглянула из сестринской. В руке у нее был бутерброд.
– Ну чего ты орешь? – недовольно сказала она. – Ну, выкидыш – что ж теперь орать? Пусть берет его и идет в процедурную, я сейчас доктора позову.
Лера вздрогнула от этих слов, впервые выйдя из своего отчаянного оцепенения. Она взглянула на Митю, почувствовав, как вздрогнула ей в ответ его рука. Она не знала, что он скажет сейчас. Блестящие мушки роились у нее перед глазами, и она не различала его лица.
– Я тебя сегодня же отсюда заберу, – сказал Митя.
– Зачем? – вяло пожала плечами Лера. – Все равно ведь надо где-то лечиться, а здесь врачи вообще-то неплохие.
– Зачем ты меня добиваешь, Лера? – тихо произнес Митя. – Я себе и так никогда в жизни всего этого не прощу, а ты как будто нарочно хочешь навсегда все забыть, кроме этого…
Такой голос у него был только однажды: когда он узнал, что она ездила к Стасу Потемкину за деньгами.
– Да я ведь и правда ничего этого не замечаю, – сказала Лера. – Я сама не понимаю, Митя, что это со мной.
– Ты просто больна, – сказал он, и Лера посмотрела на него с надеждой. Его голос наконец-то пробился к ней сквозь пелену, в которую она сама закутывалась все плотнее. – Ты просто потеряла много крови, и больше ничего, понимаешь? Больше ничего. А это пройдет, и об этом ты забудешь.