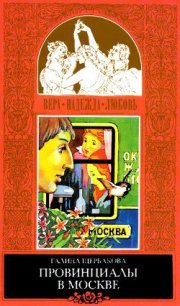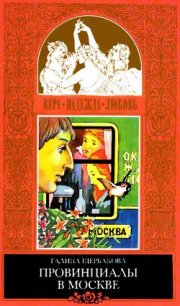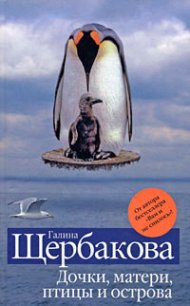Время ландшафтных дизайнов - Щербакова Галина Николаевна (книги без сокращений .txt) 📗
Девочки были замечательны, потому что остались сами собой, пожив в Москве и вернувшись на свою …щину. Маша работала в районо, Саша заведовала интернатом для слабослышащих детей. Они сразу стали начальницами по закону вечного русского блата, единственного и неискоренимого двигателя прогресса для одних и регресса для других. Замуж девочки не вышли. Не за кого! Тут-то и сказывается клятость образования. Мальчики после армии, те, кто вернулся из Афганистана, пили по-черному, выше трактористов и шоферов не подымались, а Маша и Саша как-никак делали маникюр, вилку держали в левой руке, носили на высокой подошве сапожки, деликатно, школа столицы, подсинивали веки в отличие от сельских девчонок, носивших боевую раскраску пещерных времен.
– Мы старые девы, – прямо сказала Маша. – Меня завгаражом звал в любовницы, но я как подумаю прятаться от людей, так и не нужен он мне. Подберу себе ребеночка из брошенных и буду жить.
К Саше же приглядывался отец одного глухонького мальчика, от которого ушла жена, но Сашу именно она и останавливала.
– Соображаю, – говорила она, – женщина ушла, а со стороны все было как бы хорошо. Значит, что-то там внутри? Вдруг он какой-то не такой… Ну, мало ли… Знаешь… У жены же не спросишь… А она очень даже лучше стала выглядеть, как ушла от него. Может, он боль любит… Или еще какие отклонения…
– Она имеет в виду мазохизм, – поясняет образованная Маша. – Но про это бы уже говорили. Разве такое удержать втайне!
Обе всплеснули руками, узнав, что мы с Мишкой разошлись.
– Несчастливые мы свидетели, – сокрушаются девочки, но я их бодро утешаю, что это еще не факт, и чисто нервно приглашаю их в чайную к Татьяне. Они не соглашаются, кто это идет пить чай из дома, у тебя что ли заварки нет или сахара? Но я их интригую, звоню Таньке, чтоб накрыла столик, и тащу к ней. Видно, что я их как бы обидела. Они же ко мне в гости пришли, а я их из дома вон.
По дороге я рассказываю жизнь Таньки (без инцеста, чтоб не шокировать), но с ребенком, рожденным без брака. Девочки мои переглядываются, во взгляде блеск, поэтому тут же тупят глазки. Это фантастика! Прожить пять лет в Москве, услышать и увидеть столько всего, ну не слепые же они? И остаться в анабиозе. Неужели такую закалку от нечистоты можно получить, только провалившись по шею в дерьмо? Но я знаю и другие объяснения. «Распутство, все хотят на панель, все дают всем, транжирят богатство, хотя тоже мне нашли богатство – девственность! Да тьфу на нее, дверцу в ямку». Такое я слышала и не раз, и не два. И в этом во всем растворе живет чистота и целомудренность неизвестных кровей. Откуда? Религиозность, да боже избавь! Церковь, бывает, грешит пуще мира! Маша и Саша и иже с ними даны нам как бы для понимания каких-то других уровней, хотя по жизни темные бабы, хоть и с верхним образованием. И не деревенский тут склад лежит в основе, сколько деревенских батрачат у трех вокзалов: обслуга «плешки». Всюду грязь, и вдруг на тебе – в разумение ли, в поощрение ли, в осуждение приходят люди, которые не знают этого языка разврата, пьяни и идут по воде как посуху. И осуждают наличие чайных, ибо чай полагается пить дома, а дом должен быть полон семьей. Ну вот, сказала дурь. Какая у них семья – никакой, какие шансы – брошенный женой отец глухонемого мальчика и женатый пьющий завгар, что моих образованных подруг устраивать не может по определению. И тем не менее «чаем вне дома» они удивлены, но идут со мной, поджав губки, подкрашенные бледноватым кармином. Ах, девочки, срань вы моя дорогая!
Танька расстаралась. Она уважает образование. Поставила фарфоровый, а не простой глины чайник, чашечки той же породы, пирожные подала на разные вкусы.
– Садись с нами, – говорю я ей.
– Спасибо, – она аристократично вежлива. – У меня переговоры.
На Машу и Сашу взгляд брошен профессиональный. Нет, говорит ее взгляд, эти чувырлы чашечки не украсят. Еще взгляд на меня, но он выражен словами.
– Зайдешь потом на минутку?
– Зайду.
Я знаю, что она мне скажет.
– Слушай, – скажет она, – не первый раз говорю: юродство из моды вышло. Умные из нерадивых обозвались модернистами и сидят голыми в собачьих будках, беря за просмотр себя деньги…
Ну, какие Маша и Саша модернистки? Они маются в дебрях ложных ненужных знаний, а им хочется простого бабьего счастья. Господи, а кому оно не нужно? У меня, к примеру, даже завгара нет.
Девушки косятся по сторонам, каждая что-то в себе охорашивает. Маша – белый воротничок, ровненько лежащий на вырезе джемпера, Саша щиплет волосы, норовя их подсунуть под мочку уха. Но в общем они выглядят пристойно за чайным столом, две провинциалочки, приехавшие в Москву за тряпками. Хотя тряпки из Турции и Китая есть теперь всюду. Но я ведь так и не знаю, зачем они здесь. И куда проще спросить, чем «рисовать картины».
– Она богатая? – тихо спрашивает Саша, кивая в сторону уходящей Таньки.
– Она деловая, – отвечаю я. – Больших денег не видела, но сеть чайных расширяет.
– А чашки ей кто рисует? – Это уже Маша заметила горку с образцами.
– Будете смеяться, – говорю я, – но это моих рук дело. Подрабатываю на досуге.
Могла ли я вообразить, что их это заведет, что они захотят собственные чашки и что меня это очень напряжет. Я не рисовала знакомых. Мои поделки всегда чуть-чуть шарж, а гости мои в чувстве юмора замечены не были. Я помню анекдот-тест, который мне подарил папа. Правда, он называл даже автора, но я его забыла.
Двое разговаривают.
– Почему у тебя повязка на ноге?
– Да голова болит.
– А повязка почему на ноге?
– Сползла.
Мы с папой умирали со смеху. Мама же убеждала нас, что в бессмыслице не может быть юмора. Юмор, мол, дитя ума. А бессмыслица есть без смысл-и-ца. Мне было жалко маму. Она такая потерянная была от нашего смеха. Все-таки это трудно – смеяться нарочно, чтоб позлить, например, или что-то там доказать. Смех спонтанен. Или смешно, или нет.
Я проводила этот тест в своей группе. Заржали дружно. Только Маша и Саша сутуло стояли и смотрели до ужаса глубокими, бездонными глазами, в которых не было ничего. Они тоже, как и мама, требовали объяснения.
– Как могла сползти повязка? Ну как? – Дотошно. – Ведь голова одна, а ноги две.
– Сползла и все, – смеялась я. – В этом фишка.
– Что?
– Фишка. Фокус. Соль. Изюм.
Почему я вспоминаю все это? Ах, да! Они хотят чашки, и я иду за бумагой к Татьяне.
– С ума сойти! – говорит она. – Ты уж постарайся, придай им смысл.
– Ты не заносись! – ворчу я. – Они хорошие добрые барышни. Без судьбы, но кто бы говорил? Жалко, пропадут они в своем захолустье. У тебя есть наблюдения, что наша деревня цивилизуется в ближайшие десять лет?
– В ближайшие десять лет вся деревня будет в городе, и встанет другой вопрос: сохранится ли в нем цивилизация?
– Ну, Россия всегда была деревенской.
– В город, дорогая, придет умирающая деревня. Без здоровья, без знаний, без умения работать. Она придет и рухнет наземь, твоя Россия.
Мне даже страшно стало не от слов, а от боли в Танькином голосе, будто все уже произошло, и она стоит посреди рухнувших наземь людей. И я ухожу, потому что не хочу стоять в боли, тем более фантомной. В ней вот так постоишь, постоишь и получишь какой-нибудь рак. Болезни передаются не только вирусами и микробами. Они передаются человеческим духом. Вот уж от кого, от кого, а от Таньки я не ожидала столь мрачных прогнозов. Мне это не нравится. Я ведь исподволь держусь за нее. Она опора больших высоковольтных линий, и я не хочу, чтобы по ним шел столь мрачный ток. Вот отпущу девчонок и поговорю с Татьяной. Скажу, что, когда имеешь очаровательную дочь, которая только-только пошла в школу, надо не ныть, а продолжать высаживать сады, открывать чайные и макдоналдсы, надо строить, создавать и помогать тем, кому плохо.
Я усаживаюсь так, чтоб видеть Сашу. И первый, кого я вижу, – Игорь. Он сидит возле окна с каким-то мужиком, они смотрят на меня, улыбаются как своей, и карандаш мой бедный устраивает лихой танец.