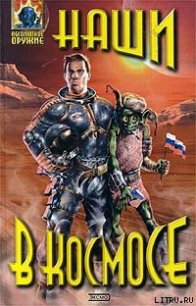Гербарий (СИ) - Колесник Юна (книги полностью txt) 📗
Она замирает, боясь утонуть в воспоминаниях. И тянет, тянет время… Дорезает апельсины, долго ищет бокалы в кухонных шкафах. Нет, до кухни компания даже не дошла. Милка делает вдох, проскальзывает в гостиную. Никита сидит верхом на стуле, положив руки поверх спинки. Встречает её мягким, тягучим взглядом, чуть заметным кивком. Она опускает голову, шепчет: «Привет», расставляет конусы бокалов. Он заканчивает какой-то пошлый то ли анекдот, то ли случай:
— … Так и жил один.
Девчонки смеются, заливаются.
— Ну, а ты, Чиж? Ты-то сам? Что такой одинокий?
— А мне, может, девушки неинтересны?
— Не верю! Гонишь!
— Ого! Вот и разгадка!
— В смысле?
— Так про вас с Тёмкой слухи разные ходят…
— Э, полегче. Тёмыча не трожьте, у него девушка на родине.
— Ну так это у него, а мы тебя спрашиваем.
— Я к отношениям морально не готов.
— Так давай мы это исправим, а, Динуль, ты как, за?
— А то!
— Я вас разочарую, дамы. Даже время не тратьте.
Его смех. Гортанный, переливчатый, он манит, заколдовывает. Но Милку сейчас коробит, просто разрывает на части, внутри неё — оживший, разбуженный часовой механизм, он тикает, он на грани, малейшая неосторожность — и рванёт. Пока она держится, пока она ещё способна на подобие рассуждений: «И не скажешь им ничего. Вот и стой истуканом, улыбайся, а ещё лучше — шагай обратно на кухню. Да, тащи фрукты. Кто ты? Никто. А он? Он им зачем? И зачем он смеётся? А что ты хочешь им сказать, если ничего и нет? Если кроме того вечера, когда вы целовались, и одного-единственного раза, когда он за руку тебя держал, — не было ни-че-го? Что ты хочешь, Милка? Чтобы он обнял тебя у них на глазах и сказал: “А мы вместе!” Так? Почему нельзя так? Потому что это неправда?»
— Ну всё, хорош, — Никита уже разливает «Бьянко».
— Чиж, а давай на брудершафт?
— Рано, рано, не торопите.
Она сидит, дежурно улыбаясь. Цедит только сок. Потом все танцуют, но совсем немного, опасаясь соседей. Потом спорят о генной инженерии слегка уже нетрезвыми голосами. Потом Динка рыдает в трубку, Настя с Линой курят на кухне в вытяжку, потому что Ксюшка запретила до темноты выходить на балкон.
Запах ментола и вишни щекочет ноздри… Девятый час. Поздно… И Милка вспоминает, по какой причине она вообще согласилась прийти сюда. Она выходит в полутёмный коридор, идёт на спокойный, ровный звук голосов. Никита на диване, в центре, одна рука за головой. Слева от него, нога на ногу, Ксюшка, сзади, облокотившись на спинку — Лина, почти касаясь грудью его волос. Или не почти? У Милки слегка темнеет в глазах, рамы на стене сливаются в единое жутковатое полотно, но голос её звучит ровно:
— Ксюш. Ты про атлас Гофмана в оригинале говорила. Покажи мне, а?
— Какая ты занудная, Соколова! Отстань уже. Чего-то не устраивает — никто тебя не держит.
А ладонь её, Ксюшкина, на его коленке.
Милка разворачивается.
«Ревность? Дурацкое слово. Ревнуют своё — к чужому. А он — не твой. Так ведь и не их. И не поймёшь — шутка это или они обе и вправду злятся? На кого? На тебя — помешала? Да и чёрт с ним, с этим ботаническим атласом! Домой». Она отыскивает в прихожей свой рюкзак, хватает ботинок и застывает, услышав:
— Ну что, красотки, пойду я, пожалуй. Мне тут пешком минут пятнадцать.
— А кто тебя отпустит?
— Оставаться — так всем вместе. Даже Настюха домой не поехала.
— Никит. Ну жутковато нам одним в чужой квартире, пойми.
— Ок, уговорили, но Соколову-то не пускайте на ночь глядя, ей на другой конец города переться.
— Не младенец, сама решит.
И тут в Милке неожиданно просыпается упрямство, которое, как мартини с соком, смешано с подобием мазохизма: «Нет — останусь. Всем вместе? Ок. Смотреть на это всё? Ну и что. Зато буду знать».
Она бросает обувь, хватает из рюкзака телефон. Набирает городской номер:
— Дедуль, не переживай, я переночую в общежитии. Да, готовимся. Нет, не голодная, — тараторит, ни капли не смущаясь от собственного вранья.
II
Музыка гаснет… истлевшим угольком, усталым фонариком. И вот кто-то уже плещется в душе, кто-то помогает Ксюшке застилать постели. Девчонки укладываются по двое в спальнях, периодически мелькая полуголыми красивыми телами. Никите разобрали диванчик в библиотеке, он полулёжа что-то набирает на планшете.
Милка снова уходит на кухню. Долго читает этикетки на средствах, что забавно висят на рейлинге. Моет, протирает тарелки и бокалы. Собирает мусор в пакет с завязками, ставит на плиту чайник. Красивый, с золочёной ручкой и такой же пипкой на крышечке.
Ксюшка стоит в проходе, облокотившись на косяк:
— Хорош греметь! Иди спать уже, а?
— Ксюша, это правда важно. Здесь точно Гофман…
— Слушай, ты двинулась уже. Давай завтра. Иди ложись, там тахта в дальней спальне, подушка есть и плед.
— Я приду, приду. Вот чайник вскипит, и приду. Ложитесь.
Ей слышны голоса, хохот Насти, страшно-дурашливый голос Никиты, гораздо позже — редкие всхлипывания Динки.
Она сидит притаившись, как мышка. А когда всё замирает и из звуков остаётся только трамвайное позвякивание, крадётся в коридор. Как бы невзначай толкает дверь. И правда — заперто. Улыбаясь, тянет носом воздух. Пахнет сигаретным дымом.
«Курит на балконе? Да, наверное… Пусть, пусть хоть обкурится. Главное, что не с одной из них. Ладно. Надо спать. Может, лучше здесь, на кухне? Нет, тут холодно, ноги мёрзнут…»
Она умывается, распускает хвост, надевает футболку, которая не пригодилась на физре, потому что как раз с неё, с последней пары, они и удрали.
По дороге в спальню ещё раз тихонько останавливается возле двери.
Тихо-тихо нажимает на ручку, и тяжёлая дверь вдруг поддаётся, ползёт внутрь.
Она подкрадывается бесшумно, босиком это не трудно. Спит?.. Опускается на колени возле дивана, на жёсткий плетёный коврик. Когда глаза привыкают — любуется, долго… Точёный профиль, тонкие губы… Сил нет терпеть, молчать, сдерживаться — никаких сил у неё больше нет. И когда сердце колотится уже где-то почти в горле, когда она слышит собственный пульс — только тогда руки, только лёгкие, тонкие пальцы, лишь касаясь кожи, пробегаются по его щеке, гладят висок, ямочку под рассечённой мочкой уха…
Она растворяется в нежности, задыхается от того, что вот он здесь, с ней и только с ней. И она знает, уверена — ему нравится, пусть он и делает вид, что спит. Ресницы его чуть вздрагивают, и дыхание — уже неспокойное.
Нельзя останавливаться… выступ ключицы, плечо, локоть, торопливо — по середине груди… Обратно вверх… Его выдох. Разочарованный?
«Нет? Не надо? Хорошо, хорошо, так — не буду…»
Какое же это счастье — угадывать. Целовать его лишь кончиками пальцев. И снова — вниз по груди, по вздрогнувшему животу и так смело — чуть ниже…
Никита резко садится на кровати:
— Уверена? — хрипловато шепчет.
В ответ — её нелепое, уже запоздалое:
— Я замёрзла…
Он беззвучно смеётся, двигается к стене, потянув её за руку:
— Иди сюда. Сейчас будет жарко.
И больше — ни одного слова. Только дыхание, горько-сладкое дыхание, и его губы, которые невозможно отпустить ни на миг.
Что это? И правда — жар. Стучащее в виски слово «вместе…» И гладкое, ровное такое скольжение, совсем не резкое, словно по волнам. Но она ничего не понимает. Она не чувствует собственного тела. Для неё главное — он. Главное — с ней. Что ещё нужно?.. Он упирается руками в пружинящий диван, и она видит силуэт его тела на фоне высокого незашторенного окна, видит, как двигаются его мышцы. Милка обвивает его ногами и тает, тает… Чувствует, как он сдерживает стон, как резко покидает её, чувствует тягучие капли кожей живота, и его губы уже не требовательно, а благодарно спускаются к её шее…
А потом магия испарится. Он рывком сядет на край дивана, быстро наденет джинсы, бросит вполголоса: