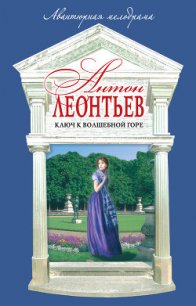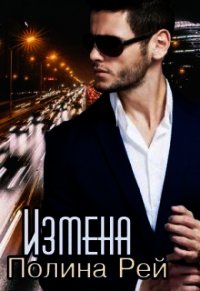Танец страсти - Поплавская Полина (чтение книг txt) 📗
Как начинались их отношения? Однажды на обычной вечеринке после спектакля их прежний режиссер, Беним Клауфсон — грузный мужчина средних лет, обремененный семьей и подагрой, — сказал, что больше не может позволить себе работать бесплатно. Да и вообще, как можно ставить “Ромео и Джульетту” на музыку Шостаковича без костюмов и декораций?
“Ромео и Джульетта”… В этом спектакле предстояло танцевать Малин и Бьорну. И, чтобы спасти давно задуманную постановку, Бьорн сам предложил себя в качестве режиссера. Малин была счастлива — она мечтала об этой партии, тем более до этого заглавных ролей у нее не было.
Бьорн танцевал хорошо. Не обладая яркой индивидуальной пластикой, он, тем не менее, был очень техничен, а с такими партнерами удобнее всего репетировать, хотя, может быть, не очень интересно выступать. О том, что у ее будущего партнера есть режиссерское образование, Малин узнала только на той вечеринке. Она сама подошла к Бьорну, чтобы порасспросить, как он собирается ставить спектакль. По поводу “Ромео и Джульетты” у нее были собственные идеи, которые она тут же ему высказала. Бьорн слушал внимательно, и Малин было очень приятно: ведь тогда мало кто прислушивался к ее рассуждениям.
Ободренная вниманием Бьорна, она так увлеклась, что начала тут же показывать ему какие-то движения, а он, ничуть не удивившись, помогал ей в качестве партнера… С ним было так просто — Малин не смутилась, даже когда поняла, что вся труппа смеется над ними. А потом они хохотали вместе со всеми, а еще через какое-то время весело и незаметно напились, и почти половина труппы оказалась у Малин дома, устроив в ее небольшой студии шумную бестолковую толчею… Вообще-то она довольно смутно помнила остаток того вечера — никогда ни до, ни после Малин не выпивала так много вина… Но в тот день между ними ничего не произошло — утром она проснулась в своей постели одетой, правда, обнаружив рядом с собой постороннее тело, вернее, целых два.
Одно тело принадлежало Бьорну, второе, прижатое к стене, — Феликсу, его приятелю. Оба спали, но когда Малин приподнялась на локте, чтобы понять, сколько же человек осталось у нее ночевать, Бьорн открыл глаза. Тихо, стараясь не разбудить Феликса, он провел рукой по растрепавшимся волосам девушки, а потом его рука пыталась соскользнуть вниз, но Малин сердито отодвинулась, и Бьорн скорчил виновато-разочарованную гримасу.
А через час, когда танцоры, наскоро выпив по чашке крепкого кофе, вываливались из ее квартиры, Бьорн задержался в прихожей и, взглянув на Малин своими серо-голубыми глазами, так похожими на ее собственные, сказал:
— Ну, прощай, девица Капулетти.
Малин хотела ответить: “Увидимся на репетиции, Монтекки”, — и выставить его вслед за остальными, но не смогла… Его прозрачные глаза словно загипнотизировали ее. Должно быть, она и в самом деле была нужна ему тогда…
Как ни старалась, она никак не могла воскресить в памяти то, что происходило между ними в то утро в постели. Она помнила только то, что Бьорн был очень нежен, а ей было так хорошо, как не бывало никогда в жизни.
Малин грустно усмехнулась и заворочалась под одеялом, пытаясь найти наиболее удобное положение для своего тела, только что счастливо избежавшего, как она надеялась, простуды… За окном вновь начал ритмично постукивать дождь, потом этот ритм перешел в плавное перекатывание шарика из тополиного пуха по какому-то узкому деревянному желобку, потом шарик обратился в туман, оседающий на скалах в каком-то незнакомом месте, и она забыла о том, что ей уже снится сон.
Открытые ставенки Музея музыки — как ноты. Каждый раз, проходя по Сибильгатан, Малин ждала, когда появится это песочного цвета здание с черными открытыми ставнями. Она не умела читать нотные записи, но была уверена, что на стене черным по бежевому записана какая-то музыкальная фраза — недаром же эти закругленные сверху черные щитки так приветливо топорщатся ей навстречу.
У Ниброплана она свернула на Биргер Йарлс, к Смолсгатан быстрее, чем сообразила, почему не хочет идти вдоль скверов и уличных кафе. Там Малин подстерегали горькие воспоминания. Она день за днем отучала себя от них в театре при встречах с Бьорном и с Хельгой, из-за которой теперь проводила в гримерке меньше пяти минут за день. Эта ежедневная работа постепенно приносила плоды: боль стихала, оставшись едва ощутимым привкусом горечи где-то у основания языка, когда Малин приходилось напрямую обращаться к Бьорну, и едва слышным звоном в ушах, сопровождавшим болтовню Хельги. Хельге надо отдать должное, та продолжала вести себя так, словно ничего не случилось. Впрочем, для нее и в самом деле ничего не случилось: обычная интрижка, затеянная ради карьеры, сколько таких еще будет?..
А Малин боялась проходить по Кунгстредгорден, где в день объяснения с Бьорном она оставила велосипед, шарахалась от душного бара рядом с театром, где они прежде часто бывали вдвоем. Некоторые места превратились для нее в заповедные зоны, нарушить границы которых значило обречь себя на вечер судорожных рыданий — такой невыносимой вдруг становилась тоска.
Смолсгатан упиралась в тупик, она совсем забыла об этом. На перекрестке с Норрландсгатан ей предстояло свернуть: направо, к Мастер Самуэльс, или налево, к Кунгстредгордену. Поколебавшись, Малин выбрала левый поворот — нельзя всю жизнь шарахаться от собственного прошлого.
Кронобергспаркен в начале осени был удивительно красив: желтый, багровый, оранжевый цвета смешивались в нем, а прозрачный сентябрьский воздух добавлял к гармонии цвета какое-то радостное сияние, похожее на то, что появляется у драгоценных камней при искусной огранке. Много лет в Кронобергспаркене высаживали деревце за деревцем, и вот теперь, похоже, эта искусственная красота стала совершенной. Малин заметила двух молодых людей с этюдниками: они выбирали точку, чтобы нарисовать пейзаж. Это показалось ей смешным, почти неуместным: рисовать уже готовое произведение искусства!
Но через несколько минут она разглядела объект, на который, по ее мнению, художникам стоило бы обратить внимание: замотанная в пеструю африканскую накидку, по дорожке к ней стремительно приближалась Кристин. На расстоянии шагов тридцати от Малин, она радостно закричала:
— У меня к тебе важное дело!
Оба художника вздрогнули и обернулись.
— Давай попробуем, ты же ничего не теряешь, — уговаривала ее Кристин. — У тебя в голове столько идей, что хватило бы на репертуар Ковент-Гардена на десять лет вперед. Ну, подумаешь, не возьмут, потом сами будут жалеть!
Речь шла о конкурсе, объявленном Северным музеем — принимались к участию пьесы, фильмы, театральные постановки — все, имеющее отношение к эпическому периоду скандинавской истории. Условия, правда, были подозрительно неопределенными, но…
— Но ведь надо же с чего-то начинать! — На этот аргумент Кристин нажимала особенно.
Рыжие кудри подруги, как всегда, служили для Малин вестником перемен. Кристин не появлялась без какого-нибудь сюрприза: то научит готовить совершенно экзотическое блюдо, то принесет невероятную одежду, которая — непременно! — должна подойти Малин, то, как сейчас, вовлечет в очередное предприятие. До сих пор Малин успешно оборонялась от предложений подруги поучаствовать в каком-либо фестивале, да и та, позвав Малин, не хотела тащить за нею еще и Бьорна, которого недолюбливала со времен совместной работы в труппе. Но сейчас Кристин уже наверняка почувствовала, что у Малин развязаны руки. И она, как всегда, права — ну что Малин потеряет, если попробует? Удовлетворенная полученным согласием, Кристин залпом выпила остывший эспрессо.
В разговоре возникла пауза, и Малин прислушалась: не может быть! В крохотную, на три столика, колумбийскую кофейню, куда они зашли поболтать, откуда-то из-за стенки пробивался голос Чезарии Эбора[7]. Видимо, в подсобном помещении кто-то слушал размеренное, глубокое пение испанки.
Чезария Эбора… Ее печальный, низкий голос был связан в сознании Малин с той тоской, которая поселилась в доме после гибели родителей. Время тогда остановилось, а в магнитофоне все крутилась одна и та же запись — тихая-тихая гитара, глухие клавиши рояля и женщина, поющая горько-пронзительные песни.