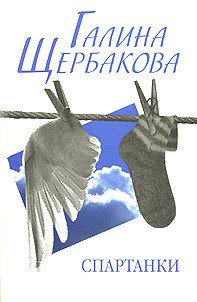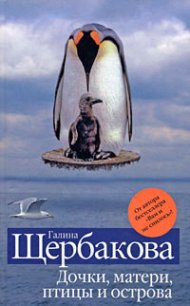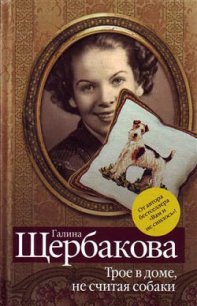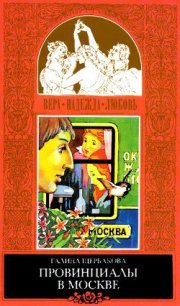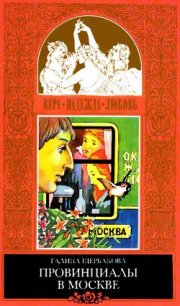Отвращение - Щербакова Галина Николаевна (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
И уже не от няньки, а четко написанная фраза у Лермонтова:
Да, да… Одинокая сосна на голой вершине. Надо вспомнить, надо вспомнить. Мешал откуда-то возникший сыроватый запах. И она открыла глаза. Две розы лежали у нее на груди в завернутой газетке. Она развернула ее, листочки розы были мокрые и прилипли к большой статье «Филологическое мародерство». Взгляда хватило, чтобы понять: это ее книгу размазывали по стенке, не оставляя ей права не то что на защиту, а на саму жизнь. Ибо она, Рахиль, была примитивна, глупа, скудоумна, стара, наконец, и не современна.
Ей захотелось закричать, потому что вместе с этими словами в нее вошла боль, и Рахиль понимала, что эту боль ей не вынести, что это уже конец конца, и нет сил и времени ни объясниться, ни оправдаться. А потом боль ушла, и ушло все. И она уже не видела паники, реанимационных усилий, отчаянное лицо мужа и Берту, которая непрерывно звонила кому-то по мобильнику.
Как это оказалось легко! То, что защита будет отложена, уже не вопрос. Но это полдела. Теперь все зависит от сердца этой Рахильки – такая жалкая лежала в постели после операции, она ходила смотреть специально, что легкой подушки бы хватило ей на морду, но это был бы перебор. Пусть сердце само по себе разорвется. У этих прошлых дам, вскормленных гуманистическими идеями, оно, как правило, слабое. Сейчас она думала: смыться ли ей из Москвы, будто ее тут и не было или бояться нечего? Она ведь, собрав все документы для Москвы, допрежь уехала как бы ставить маме памятник, у мамы ведь тоже износилось сердце, но не от интеллигентской дури, а от тяжелой метлы – туда-сюда, туда-сюда, шкреб-шкреб, шкреб-шкреб… Выскреблось. В Москве, в переходе, она купила черный гипюровый платочек, узелок тугонько под подбородок, ну сама печаль-горе. Самое то для могилы, но Дита крутилась возле больницы. Попросила девчоночку, что пришла навестить кого-то, положить розы в газете в такую-то палату.
– У меня некстати пошли сопли, – объяснила она девчонке, – лучше не идти, от греха подальше. А подруга, что лежит, просила эту газету. – На ней под косыночкой был белый парик, под мадам Лавальер, самый дешевый, можно сказать, из пакли. И темные очки в пол-лица. Ведь по первости она сама хотела войти в палату, но вовремя скумекала, что это совсем дурной вариант, даже если она не зайдет в палату, а засунет презент в дверную ручку. А если дверь будет открыта? А если в палате кто-то будет? Нет, нужен был чужой человек «от подруги». Лучшие «подарки» дарят именно они. Давно замечено.
Поэтому в библиотеке Дита спокойно села за работу, написанную Рахилью, в которую она вкрапляла заметки Володи. Традиционный элегический тон исследования Рахили просто взрывался Володиной нервностью. И сшивать эти несшиваемые концы было для Диты сплошной радостью. Получалось, им обоим она была нужна со своим умением сплести кружево из чужого опыта и непрожитой неумелой страсти, из глубокого понимания и бесшабашности мыслей по случаю.
Ай да Дита, ай да молодец! – восхищалась она собой. Это будет не работа, а бомба. Открывая как бы заново Чехова, она напоследок так хлопнет по нему дверью, что ему ничего не останется, как еще раз попросить шампанского и сказать: «Ich sterbe». И по-русски, по-чеховски, тихо добавить: «Теперь уже насовсем, дамы».
Навела справки. Бесчастных была в коме. Кома давно занимала Диту, как и сонная артерия. Пребывание ни в тех, ни в сех предполагало возможность неких новых постижений. Если этого нет, то в коме как явлении жизни нет никакого смысла. А кома считается жизнью. А если она все-таки смерть? Сорван с грядки недозрелый помидор. Он живой или мертвый? Мертвый, если сравнить со срезанным цветком, но помидор лежит на подоконнике и дозревает, доходит до кондиции – жизни или смерти? Мы вгрызаемся зубами в брызжущий соком плод – мы съели живое или мертвое? Человек в коме – он кто? Помидор для дозревания или сломанный цветок? Или он в медленном темном переходе к завершению пути. Ах, какая жалость! Человека в коме не поставишь в вазу, чтоб насмотреться ссушенных лепестков, и не положишь на подоконник, чтоб, наоборот, увидеть дозревание. Дите было весело думать эти абсолютно сумасшедшие мысли, некоторые она записывала. Мало ли! Кто знает, в каком состоянии создавали свой великий бред Гоголь и Достоевский? Может, это тоже вид пребывания в коме. Ее творческая разновидность.
Не будь Берты, все давно бы кончилось. Как говаривал один хирург-остроумец с Украины, «и вси поминальни пырожкы покакалы бы». Но она вызвала специалистов-немцев, те долго колдовали над несчастной Рахилью, говорили непонятные немецкие слова, ничего не обещали, но присылали какие-то новые лекарства, и случилось чудо чудесное: Рахиль открыла глаза и узнала всех сразу. Правда, никто не знал, что она помнила, что вчера (а прошло три месяца) она видела ужасающую статью про себя, и ей тут же захотелось вернуться в блаженное незнание, но все были настороже, и фокус с возвращением назад у нее не получился. А через какое-то время муж увез ее домой. Берта навзрыд плакала в купе, подворачивая под ноги Рахили одеяло.
– Успокойся, Боженка, – отвечала Рахиль. – В конце концов, я жива.
– В конце концов, ты обязательно приедешь в Мюнхен, тараторила Берта. – И ты будешь нам читать свои замечательные лекции.
– Traurin bin, – прошептала Рахиль.
Она не знала, что Берта чувствовала себя виноватой во всей этой истории. Это она растрезвонила среди филологов-славистов, какая замечательная филологиня Бесчастных. Будто она не знала русских! Пять лет ведь училась среди них. Набиралась ума и исследовала характер этого народа, богато-нищего одновременно, щедро-завистливого и изысканно-жестокого. Только русский мог завернуть розы в подлый пасквиль и положить на грудь тяжело больной женщине. Берта знала, что это была блондинка в косыночке, умолившая глупую девчонку сделать пакость своими руками. Берта узнала подлинную фамилию автора статьи – некрасивая брюнетка из Волгограда, Дита Синицына. Она позвонила в Волгоград и узнала, что Дита ставила памятник на могилу матери в дни комы Рахили. Россия огромна. Могла быть и другая завистница, и третья. Значит, самое важное – не искать злодейку, а спасти Рахиль, оставить ее жить. Боже, справится ли с этим ее муж? Он такой слабый с виду мужчина. Берта дала себе слово отслеживать все чеховские защиты в Москве и Петербурге. Она догадалась: одна из диссертаций будет та, что будет сворована у Рахили. Только бы уследить, только бы не пропустить. Хотя как уследить за просторами России? Диссертант может всплыть где-нибудь в Красноярске или Томске. Ну и как она найдет? Но почему-то думалось: замысел был московский. Очень соблазнительно было кому-то въехать в столицу на Чехове Рахили. Как же она подвела кого-то, оставшись жить! Очень хорош был бы слух о смерти Рахили или хотя бы о полной ее невменяемости. Подталкивая одеяло под ноги Рахили, Берта наметила, кому и что надо сказать, кого предупредить, кого осторожить.
– Боженка ты моя! – обнимала ее Рахиль. После болезни она будто забыла, что та – Берта. Берта с именем. Берта с положением. Она обнимала полячку, едва связывавшую когда-то скользкие русские слова. Но древнее библейское имя молодой преподавательницы русской литературы всегда говорилось легко и правильно. «Боженка моя!» – отвечала Рахиль.
Рахиль выздоравливала частями. Первой заработала рука. Однажды она взяла ручку и написала строчки:
Она забыла напрочь, чьи слова писала рука, но пальцы держали ручку грамотно, крепко. Вечером она сумела сама налить себе заварку. Через какое-то время на виске завихрился подраставший волос. Правда, он был почему-то совсем седой, но поворот его, даже некая лихость были прежними, почти как в молодости. И волосы, будто услышав зов вожака, забуянили, завернулись в колечки, глядишь – и шапочка нарядила голову, ну и что, что седая! Теперь это называется платиной.