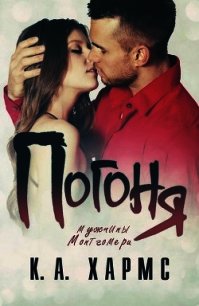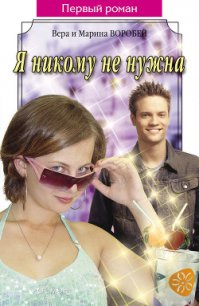Красавица некстати - Берсенева Анна (книги бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
– Было бы хорошо, если бы мы попали в один барак, – чуть слышно просипел Иннокентий.
Все-таки за полтора года он не приобрел никаких зэковских привычек, не усвоил никаких суеверий! Ну разве такое произносят вслух?
Но, как ни странно, он не отпугнул удачу. Они с Игнатом в самом деле оказались в одном бараке и даже рядом на нарах.
– Нам повезло с местами! – по-детски восхитился Иннокентий.
Хотя вряд ли их места можно было считать везением: они были во втором ярусе, где зной усиливался поднимающимися вверх испарениями десятков немытых тел. Впрочем, Игнат уже знал, что Иннокентий таких вещей не замечает. Он не то чтобы опускался в тех условиях, которые и были рассчитаны на то, чтобы люди теряли человеческий облик, – он просто не замечал физической составляющей этих условий. Та тонкая, сложная жизнь, которая была присуща его духу и которой весь он жил настолько полно, что искренне полагал ее единственной формой человеческой жизни, вырывалась из любых внешних условий. Игнату казалось, что именно эта тонкая жизнь рвется из худого Иннокентьева тела вместе с каждым приступом кашля. Он старался об этом не думать.
Пока новичков вели через тайгу, пока распределяли по баракам, наступил вечер.
– Лягайте уже, – недовольно сказал зэк, место которого было прямо под Игнатом и Иннокентием. – Порхаетесь, порхаетесь. Все одно подохнете.
Он был похож на конвоира, этот зэк, только на давно не кормленного конвоира. Вряд ли он был из блатных, иначе разговаривал бы с политическими по-другому да и жил бы в другом углу барака. Может, сел за случайную кражу. А может, сосед по коммуналке хотел получить его комнату больше, чем того же хотел он сам, и написал на него донос быстрее, чем сам он успел подсуетиться на тот же счет.
– Почему вы так думаете?
Иннокентий свесил голову вниз и задал этот вопрос прежде, чем Игнат успел его остановить. Оказавшись в бараке, он немного отдышался, пришел в себя, и в нем проснулся всегдашний интерес к людям и мнениям.
Сосед снизу презрительно оглядел Иннокентия.
– А ты чего думал, тебя сюда на гульки пригнали? Тайгу валить. Покудова сам не свалишься.
Игнат увидел, как сразу помрачнело лицо Иннокентия. Даже не помрачнело, а подернулось нездешней тенью. Когда такая вот тень набегала на его лицо, у Игната внутри возникало то же самое чувство, как когда Иннокентий выкашливал из себя жизнь.
– Заткнись, – тоже свесив голову вниз, сказал он. – Чтобы я тебя больше не слышал.
Он с первого взгляда понял шестерочную природу обитателя нижних нар и, как выяснилось, не ошибся. Тот заткнулся сразу же, от одного Игнатова голоса. Правда, и голос был не из ласковых.
– Ложитесь, Иннокентий Платонович, – сказал Игнат. – И правда, отдохнуть надо.
Ему не казалось странным, что Иннокентий называет его по имени-отчеству после долгих месяцев, проведенных бок о бок в таких условиях, которые не располагали к церемониям. В поморской деревне, где он вырос, назвать взрослого мужчину без отчества считалось не то что неуважением, а даже оскорблением. Так что, попав в Москву, Игнат воспринял городской этикет естественно и так же естественно воспринимал его правила в любых условиях. И сам называл Иннокентия по отчеству, тем более что оно было простое, какое-то ласковое и выговаривалось само собою.
Иннокентий уснул сразу. Вся его природа, вот эта, нездешняя, была такова, что он легко переходил к той нездешней же жизни, которой был сон.
Игнат бессонно смотрел на темные балки потолка, и сна ни в одном глазу у него не было.
Он этому не удивлялся: знал, что сон от усталости сваливает его только в том случае, если усталость имеет живое, осмысленное происхождение. В ранней юности, когда ходил со взрослыми мужиками весельщиком на карбасе промышлять белуху, он засыпал как убитый, едва коснувшись головою любой твердой поверхности. И когда работал в Москве на стройке, тоже засыпал сразу. Конечно, та работа была вынужденной, нелюбимой, ее не сравнить было с промыслом рыбы в Белом море. Но все-таки и она, стоило только начать, постепенно захватывала, приобретала тот смысл, который не зависит даже от цели труда, а заложен в самой его глубоко правильной сути. И потому он уставал на стройке тоже и засыпал тоже мгновенно.
А теперь он устал не от работы. Он уже потерял счет времени, в течение которого уставал не от работы, а от ночных допросов, побоев, голода, жажды, тупых, бессмысленных действий, к которым свелась лишенная чувств и мыслей жизнь. Если бы не Иннокентий с его нездешней душой, Игнату вообще пришлось бы плохо. Иннокентий научил его цепляться сознанием за каждую примету другой, не связанной с ежеденевной безнадежностью, жизни. То есть он ничему Игната не учил, конечно. Он просто жил рядом так, как только и мог жить, и этого оказалось достаточно.
Игнат был потрясен этим еще в то утро, когда Иннокентия втолкнули в камеру после трех суток допроса и, едва придя в себя, он сказал:
– Надеюсь, я не назвал никаких фамилий. Я же не мог оклеветать людей.
И замолчал на сутки – видимо, пытаясь вспомнить, так ли это, и мучаясь сомнениями. А после следующего допроса, длившегося уже четверо суток, выговорил почти неслышно, но с радостью в голосе:
– Действительно не назвал! Ведь на этот раз они спрашивали меня о том же самом. И протокол с прошлого раза оказался не подписан. Это прекрасно.
И Игнат понял, что так оно и есть: не назвал. Даже не потому понял, что сам тоже не подписывал никаких их блядских протоколов, а потому, что выговорить слово «прекрасно», лежа почти без жизни на холодном каменном полу, мог только особенный человек. Каким и являлся Иннокентий Платонович Лебедев, по специальности ботаник.
Иннокентий закашлялся и кашлял долго, надрывно. Но все-таки не проснулся: кашель стал таким привычным для него, что уже не будил. Скосив глаза – он давно уже научился видеть почти в полной темноте, – Игнат понял, что сон Иннокентия глубок и безмятежен, будто он спит и не в душном бараке. Может, ему снится лестница Ламарка, которую, как он однажды сказал, можно считать эволюционным аналогом лестницы Иакова. И тут же объяснил Игнату, что такое лестница Иакова – та, по которой Иаков поднимался к ангелам, то ли во сне, то ли в каком-то другом состоянии. Игнат, конечно, читал Библию в детстве – он ходил в церковно-приходскую школу, да и мать, как все у них в Колежме, была богомольна, – но мало что с той поры помнил. А потом, когда Библию читала Ксения, он отшатывался от этого, как отшатывался от всего, что отделяло от него Ксёну, уводило и наконец увело совсем.
Воспоминание о жене коснулось его осторожно, почти неощутимо – так, как сама она касалась когда-то его щеки рукой. Тогда он чувствовал ее прикосновение даже во сне, но и тогда уже поражался тому, что чувствует его как-то… неосязаемо. Будто это и не прикосновение женской руки, а лишь мысль, или взгляд, или даже одно только неясное стремление коснуться его щеки рукою.
Может, сейчас как раз и надо было думать о таких вот неосязаемых стремленьях, взглядах, касаньях, из которых сплошь состояла его жена. В них не было того жара, который так тревожен для тела, и поэтому для его тела в нынешнем состоянии – измученном, бесцельно напряженном – спокойные мысли были бы благодатны.
Но Игнат думал совсем о других прикосновениях и взглядах. От них весь он загорался еще тогда, когда они были хотя и краткой, но реальностью. И даже теперь все его тело отозвалось на одно лишь воспоминание о них сразу и с такой неожиданной силой, что у него потемнело в глазах, хотя в бараке и так уже было темно, хоть глаз выколи.
«Ты хоть живая, а? – с тоской спросил Игнат. – Может, помереть мне, чтоб до тебя дойти? Или рано? Живая ты?»
Она молчала. Она вообще ни разу не сказала ему ни слова. Это казалось ему странным, и не потому, что он был мистиком. Какое! Он считал мистику порождением праздного ума, и люди, которые были ею увлечены, вызывали у него лишь снисходительную брезгливость. Но его связь с Эстер, вся державшаяся на таком желании телесности, которого он иной раз даже стыдился, была слишком сильна, чтобы быть молчаливой. В конце концов, что такое слова? Не до конца материализовавшиеся мысли. И если его мысли об Эстер материализуются настолько, что он видит ее яснее, чем наяву, и отзывается на это всем телом, будто подросток, то почему бы ей не сказать ему, где она и что с ней? Он, право, не удивился бы, если б сказала.