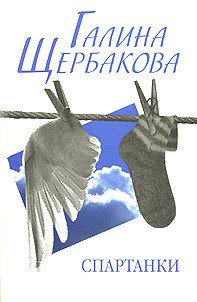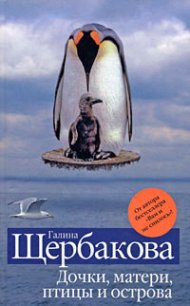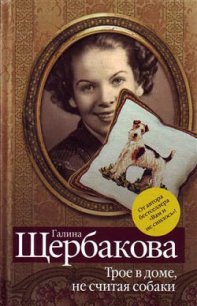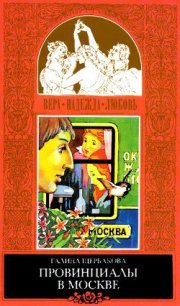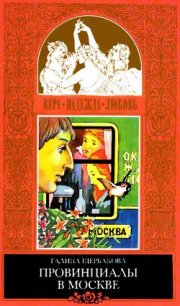Отвращение - Щербакова Галина Николаевна (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Дита держит в руке книжку. Листает с конца. В библиографии есть та самая брошюрка, на которую она положила глаз. Получается, что эта тетка ее перегоняет. Ситуация не очень. Говенная ситуация.
На женщину с такой фамилией просто обязан был наехать трамвай ради нее, Диты. Она верила в говорящие фамилии. Ее летучий отец фамилию носил Ветренко, вот его и сдуло. У Володи вообще фамилия – приговор. Коротков. И нога короткая, и жизнь… Бесчастных. Тут что? Без счастья или без части? Без части счастья. Вот как она придумала.
Где-то должен был ехать трамвай для Рахили. Не может его не быть! Потому как и фамилия самой Диты определяет ей единственное поведение. Вот она Синицына. И что? А то! Птичка, данная ей в разумение, очень и очень непростая. Хотя в природе ничего простого нет, только вглядись, только колупни ножичком. Однажды любопытство занесло ее в Брэма, в восьмом или девятом классе. Вот что она прочла про синиц: «Их (синиц) нельзя запирать с другими птицами, потому что они нападают на них, убивают ударами клюва, разламывают череп и с жадностью съедают мозги своих жертв».
Боже, как она ревела, представляя эту бойню! Как ей было попервах жалко забитых птиц. И как она в мгновение ока перестала плакать, проникшись сочувствием уже к синице, к безвыходности ее ситуации, когда надо выжить. И как ее охватил, можно сказать, синичий жар побеждать любой ценой. Ведь даже у человеков есть песня со словами «мы за ценой не постоим».
Это люди – не птицы – придумали классовую борьбу, чтобы в общей куче скрыть личную, индивидуальную хищность. Конечно, ею, как флагом, не помашешь, не тот, можно сказать, флаг. Но и стыдиться, что ты таков, каким тебя сделала природа, нечего. Сплошь и рядом люди поедают чужие мозги, а некоторые даже не в переносном смысле. Вот сейчас у нее в руках тетрадки глупого мальчишки и диссертация старой тетки. Это же ее счастье, ее удача. Ей даже не пришлось его убивать – сам ушел в воду. Это все равно как получить наследство от тети, которую в глаза не видел, а она – старая дева – когда-то, когда-то принесла на твои крестины пинеточки неописуемой мягкости и попросила разрешения самой надеть их на розовую ножку и ощутить пальцами нечто неведомо прекрасное – младенческую пятку – и, нагнувшись, будто бы к завязыванию пинеточек, прикоснуться губами к пяточке, прикоснуться и исчезнуть навсегда, унося с собой миг счастья. А потом – через, через… – взяла как бы тетка и отписала целованной пятке квартиру на Котельнической набережной с окнами на Кремль и Христа Спасителя. Ну, что-то в этом роде… Скрепочкой к брошюрке (Дому на набережной) были приколоты заметки самого Володи и даже некие несогласия с Рахилью, типа Антон Чехов очень не простой господин, он много чего написал, а потому видеть нравственный посыл в письмах – очень уж совковый подход. Чехов не помощь нравственному кодексу строителя коммунизма, его письма – скорее скальпирование звериной сущности человека, который в сюртуке запеленутый стонет и воет, требуя выхода, а он, Антоша, Антон, Антон Павлович, знает заговорное слово, как поладить с голым зверем: не усмирить его, а утешить, ведь другого, чем ты в своей голости, тебя не будет. Какой ты человек есть, такого и ешь. А то, что в человеке все должно быть прекрасно, так это наив. Хоть бы что-то было. Победчиками остаются Яшки, а не дяди Вани. Последнему на последнем витке останется разговаривать с лошадью, тогда как девочка, удавившая младенца, вырастет, а Треплев не вырастет никогда, а Нина сопьется, а Наташа схарчит трех сестер. И только привидение Фирса… И т. д., и т. д.
«Истинное, – еще писал Володя, – обладает неким исключительным запасом жизни. Увы, не бессмертия. Все смертно. Но корень истины все-таки сильнее корня пошлости. Хоть пошлость растет быстро и жарко, истина – медленно и прохладно…» И еще у Володи почему-то именно в связи с Чеховым было нарисовано кольцо жизни русского человека, который изначально рождается рабом (отсюда и необходимость выдавливания его из себя по капле). Рабство рождает нищету. Нищета – жестокость. Жестокость – нелюбовь. Нелюбовь – пустоту в душе, а пустота – рабство. И так по кругу.
«Ну-ну… – думает Дита. – Сорок бочек арестантов. Конечно, в шестнадцать лет такое влететь в голову может. В голове много дырок в этом возрасте. Как в скворечнике, если его продырявить со всех концов».
В свои шестнадцать она мечтала о свежесваренной курице, с которой до прихода матери она успеет пальцами снять кожицу и запихнуть в рот. Они тогда ели исключительно сто лет лежалые рожки с поджаренным луком. От пресной еды ей сводило горло. Курица была раз в году. Не чаще.
Сейчас у нее загвоздка по имени Рахиль, с которой тоже, как с курицы, хочется снять ее овчинную шкуру.. Ау! Трамвай! Где ты? А тут еще один удар под дых. Аспирантка по немецкой литературе Валька Кизякова (ничего себе фамилия, не правда ли?), страхолюдина, каких мало, получила грант за границу и какой-то не рублевый премиал. И тогда Дита, в темной-темной комнате одна-одинешенька сказала еще раз всю правду, которую уже думала о себе.
Да, у нее был ум. Ум без таланта. Вот в чем суть дела. А талант – это некий дух, который играет с умом в игры и всегда побеждает. Ум наживают, а талант – он достается за так. И Дите хотелось разбить зеркало или еще что-нибудь звенящее, никогда ей не было так обидно и горько. Съесть чужой мозг – это не штука. Штука найти в себе дар. «Я Скарлетт, – сказала она себе, – я подумаю об этом потом». Она только-только прочитала роман.
Нужны были деньги, не маленькие, на поездку в Москву. Там крутятся большие капиталы, там придумываются и принимаются идеи, там стоят бокалы с пенящимся вином. И туда поедет эта овца Рахиль, на которую она, Дита, и пустит трамвай. Их университет нищ, откуда у него деньги «на поработать в «Ленинке». Шустри, девушка, сама. Шустри! И Дита села на поезд, который вез к матери. План в голове уже был, но пунктирный. Линии должны были рисоваться по ходу жизни.
Дита еще студенткой проследила на всякий случай, чтоб мать свою низколежащую квартирку приватизировала. Даже ездила специально посмотреть документы. И узнала, что некоторым дворникам это не удалось, потому как служебная площадь. Но матери-ветеранке – тридцать лет скребет двор на одном месте – разрешили. И пискнула в душе Диты птичка-синичка.
Теперь, когда в закутке лежал материал бесценных качеств, царство небесное тебе, Володя, мужская бестолочь, Дита поняла, что ей могут понадобиться деньги на большой перелет. Пусть не завтра, но они должны быть.
Она договорилась на кафедре, что ее отпустят на тройку дней к матери. Сложила литературный клад в кейс и оставила его в камере хранения. Не дура же она, в конце концов, оставлять все в общаге.
Соседями в купе оказались беженцы из Казахстана. Их теперь тьма-тьмущая. Им она за глаза и продала квартиру. В общем, когда приехала домой, деньги были уже в руках, а новые хозяева вошли и сели, уже как в своем дому.
Соседи были рады Дите. Они боялись, что мать спалит дом, оставив открытым газ. К удаче – все шло в масть – невестка соседки была нотариусом. В момент все было оформлено за символические деньги. Соседка на обратном пути рассказывала Дите подробности о матери, какая та стала дурная, даже, извини, Диточка, не всегда за собой смывает. С матерью на самом деле не все было в порядке. И гипотетическая – откуда у нее такие возможности? – идея устроить мать в дом для престарелых как-то ушла сама по себе. Никто полоумную старуху туда не возьмет.
Матери было шестьдесят лет. Уже теткой она взяла на постой милиционера. И когда у нее случилась задержка, то умные люди сказали, что задержки теперь очень ранние, особенно у тех, кто на тяжелых работах. А она тогда как раз носила ведра с битым кирпичом – меняли крылечки у подъездов. Она их за день ой сколько стаскивала. Уже потом рассказала об этом дочери, когда та поступила в аспирантуру, даже порозовела черным своим лицом, вспоминая даже с некоей гордостью, какими тяжелыми были те ведра. Видимо, где-то в извилинах ее неразвитого ума они странным образом сближались – то битье со двора, которое она сгребала скребком, и получившаяся в результате ученая дочь.