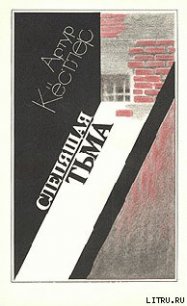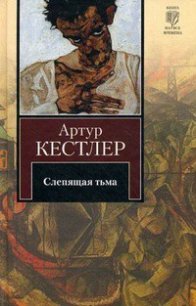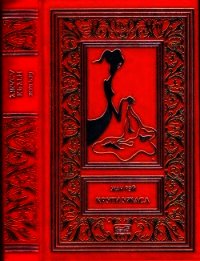Барышня Эльза - Шницлер Артур (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
Пустынными темными улицами он вернулся домой и через несколько минут, раздевшись, как вчера ночью, в кабинете, осторожно, на цыпочках пробрался в спальню.
Он услышал ровное и спокойное дыхание Альбертины, узнал очертание ее головы в мягком гнезде подушек, и, совершенно неожиданно, чувство нежности и даже уютной безопасности пронизало все его существо. Он на месте решил как можно скорей, быть может завтра, рассказать Альбертине всю историю прошлой ночи, но в такой форме, как если б все пережитое было сном, — и только потом, когда она почувствует и осмыслит всю незначительность его приключений, — только тогда он признается ей откровенно, что все это было наяву.
— Наяву? — переспросил он себя и в то же мгновение заметил совсем близко от лица Альбертины, на соседней, на своей подушке что-то темное, отграниченное — как бы затемненный профиль человеческого лица. Только на секунду у него защемило сердце, а в следующую он уже знал, в чем дело, потянулся к подушке, схватил маску, в которой он был прошлой ночью, маску, нечаянно выпавшую из свертка маскарадных аксессуаров сегодня утром, когда он прятал концы в воду. Очевидно, ее подобрала горничная или сама Альбертина…
Нельзя было сомневаться, что Альбертина после этой находки догадывается о многом, а быть может, подозревает гораздо худшее, чем было на самом деле.
Но самый способ, каким она дала ему это понять, эта выдумка — положить черную маску рядом с собой на подушку, словно она олицетворяет ставший с некоторых пор загадочным для нее облик мужа, — эта шутливая, почти вызывающе веселая выходка, таящая в себе и кроткое предостережение, и готовность к легкому примирению, — все это сообщило Фридолину твердую уверенность, что Альбертина, с оглядкой на свой собственный сон, решила, что бы там ни произошло, не делать из случившегося трагедии.
Но Фридолин, внезапно сломившийся от нервного напряжения, уронил маску на пол, совсем неожиданно для себя громко и болезненно разрыдался и, опустившись на колена возле кровати, тихо всхлипывая, спрятал лицо в подушках.
Через несколько секунд он почувствовал прикосновение нежной руки к своим волосам — тогда он поднял голову, и от глубины сердца у него вырвалось:
— Я тебе все расскажу!
Она тихонько подняла руку, как бы говоря: «не надо»; но он схватил эту руку и удержал ее в своей, глядя на жену и вопросительно и умоляюще; тогда она кивнула, и он начал рассказывать.
Рассвет уже брезжил сквозь штору, когда Фридолин досказал до конца. Ни разу Альбертина не прервала его нетерпеливым: «что дальше?», «а потом?». Всем существом своим она знала, что он не может и не хочет от нее ничего утаить. Она лежала спокойная и внимательная со сплетенными под затылком руками и молчала еще долго после того, как умолк Фридолин.
Наконец Фридолин, все время лежавший рядом, склонился над Альбертиной, заглянул в ее бесстрастное лицо с большими светлыми глазами, в ее зрачки, в которых уже занималась заря, и голосом, полным растерянности и надежды, спросил:
— Что же нам делать, Альбертина?
Она улыбнулась и, немного подумав, ответила:
— Быть благодарными судьбе за то, что вышли живыми и здоровыми из наших приключений: ты — из настоящих, я — из приснившихся!
— А ты в этом уверена? — спросил он.
— Так же глубоко, как и в том, что действительность одной ночи или даже всей человеческой жизни еще не исчерпывает ее внутренней правды…
— И в каждом сне, — с сожалением вздохнул он, — есть доля действительности…
Она взяла его голову в свои ладони и в сердечном порыве прижала к груди.
— Теперь мы проснулись, — сказала она, — и надолго.
Он хотел было прибавить «навсегда», но, прежде чем он выговорил слово, она приложила свой палец к его губам и, словно про себя, пробормотала:
— Никогда не заглядывать в будущее!..
Так лежали они рядом, оба молчаливые, оба немного сонные, но с трезвым сознанием близости, пока, как всегда по утрам, не раздался семичасовой стук в дверь — и, с привычными шумами улицы, с торжествующим снопом солнца, сквозь щель портьеры и с радостным детским смехом за стеной, к ним не ворвался новый день.

Фрау Беата и её сын
Ей послышался шум в соседней комнате. Она подняла глаза от начатого ею письма, подошла тихими шагами к приотворенной двери и заглянула через щель в комнату, где при закрытых ставнях сын ее, казалось, спокойно спал на диване. Потом только она приблизилась к нему и увидела, как грудь Гуго подымалась и опускалась от его ровного и сильного юношеского дыхания. Гуго лежал совершенно одетый, только воротник рубашки, мягкий, слегка смятый, был отстегнут у шеи; он даже не снял подбитых гвоздями сапог, в которых ходил в деревне. Очевидно, ему стало очень жарко и он прилег на короткое время, с тем чтобы, встав, снова приняться за учение, — это видно было по раскрытым книгам и тетрадям. Он повернул голову набок, точно уже пробуждаясь ото сна, но только потянулся несколько раз и продолжал спать. Глаза матери, освоясь с полумраком комнаты, не могли не заметить, что поражавшая ее уже несколько раз за последние дни странная болезненная складка у губ семнадцатилетнего юноши не разгладилась и теперь, когда он спал. Беата со вздохом покачала головой, вернулась к себе в комнату, тихо закрыла за собою дверь и опустила глаза на письмо; продолжать его. У нее теперь не было охоты. Ведь со своим поверенным Тейхманом, которому это письмо предназначалось, она не могла говорить без стеснения; она и так раскаивалась уже в том, что слишком любезно улыбнулась ему на прощание из окна вагона. Как раз теперь, в эти летние недели в деревне, она особенно живо вспоминала о своем муже, умершем за пять лет до того; любовь адвоката, в которой он еще не признался, по неминуемо должен был признаться, встречала поэтому в душе ее такой же отпор, как всякие мысли о собственном будущем. И ей казалось, что менее всего она могла бы говорить о своей тревоге за Гуго человеку, который увидел бы в ее словах не столько доказательство доверия, сколько знак поощрения. Она разорвала поэтому начатое письмо и подошла в нерешительности к окну.
Очертания гор за озером расплывались дрожащими воздушными кругами; снизу, с поверхности озера, сверкало перед Беатой тысячекратно раздробленное отражение солнца, и она быстро перевела ослепленный взгляд через узкий прибрежный луг, запыленную большую дорогу, сверкающие крыши вилл и неподвижно колосившееся поле на зелень своего сада. Ее взгляд остановился на белой скамейке под окном. Она вспомнила, как часто ее муж сидел на этой скамейке, обдумывая роль или отдаваясь дремоте, в особенности когда воздух покоился вокруг с такой же летней истомой, как теперь. Как часто тогда она высовывалась из окна, нежно касалась черных с проседью волос и теребила их. Фердинанд тотчас же просыпался, попритворялся сначала спящим, чтобы продлить ласку, потом оборачивался наконец к ней и глядел своими детскими веселыми глазами, которые, однако, в далекие теперь, незабвенно сказочные вечера умели принимать такое геройское или такое печальное выражение. Но об этом она не хотела, не должна была вспоминать — или, во всяком случае, не с такими вздохами, какие теперь невольно вырывались у нее. Сам Фердинанд — в те минувшие дни он даже требовал от нее клятвенного обещания — желал, чтобы память о нем освящена была радостью, даже безмятежным новым счастьем. И Беата подумала: как страшно, что в расцвете счастья так легко и шутливо говорят о самом страшном, как будто оно может наступить лишь для других, по не для себя. А потом несчастье приходит; оно непостижимо, и все же его выносишь, и время продолжает идти, а человек продолжает жить. Спишь на том же ложе, которое делила с любимым, пьешь из того же стакана, которого он касался губами, срываешь в тени тех же сосен землянику, которую собирали вдвоем и которую он никогда более не будет собирать, — и не можешь понять, как это возможно.