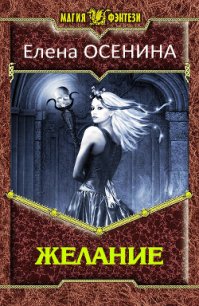Сыщица начала века - Арсеньева Елена (книга бесплатный формат .txt) 📗
Ох, господи, сколько раз Алене приходилось описывать преступников, которых неодолимо тянет на место преступления, но сейчас она и сама ощутила нечто подобное.
Нет, ну дурь какая! Она ведь не найдет, ни за что не найдет ту яму!
Разве что Тюлениным позвонить? Вдруг их тоже тянет? Тогда сходили бы…
Господи, да дело тут ни в какой не в патологии, а просто жаль, чертовски жаль того несчастного, если он все еще там!
Алена потянулась к аппарату.
Точно, надо позвонить Инке с Леонидом. Спросить, как они там, а потом плавно перевести разговор на…
Нет, если честно, ей совсем не хочется тащиться в лесную осеннюю сырость. Но любопытство мучает ее, словно наркомана – невозможность сделать очередную затяжку!
Телефон затрезвонил прямо в руке, уже взявшейся за трубку. Алена отпрянула, словно обжегшись.
Это Инка, конечно. Значит, и Тюлениных тянет!
– Алло, Ин, привет, я как раз собралась тебе…
– Алена, это Света Львова, – перебил ее знакомый голос, в первую минуту показавшийся незнакомым. – Я… ты сейчас очень занята?
– Нет, а что? – Алена изо всех сил старалась говорить беззаботно. Ее почему-то так и трясло. Совершенной психопаткой стала, ну нельзя же так! – Хочешь снова прогуляться со мной по улице Мануфактурной?
– Где? – В голосе звучала растерянность. Полное впечатление, Света и в самом деле забыла о существовании этой улицы! – А, нет. Слушай, Алена, у меня случилось… у меня беда. Ты не могла бы сейчас приехать?
Алена не стала переспрашивать, какая беда. Зачем тратить время, когда говорят таким голосом?
– Какой адрес?
И она потянулась к блокноту с засунутой в него ручкой. Последняя запись была сделана здесь во время разговора с той же Светой в пятницу, позавчера: «На краю географии»…
Куда влечет тебя неведомая сила на сей раз, писательница Дмитриева?
Из дневника Елизаветы Ковалевской. Нижний Новгород, август 1904 года
Вчера сидела за дневником до глубокой ночи и уснула за столом. Павла, которая никак не может простить мне моего самовольного переодевания и бегства, с трудом довела меня до постели, и я забылась под ее ворчание. Спала я так, словно меня в какой-то кокон запеленали, не помня ничего, без сновидений, на правом боку, ни разу не повернувшись. Все тело наутро затекло, и правый глаз немножко запух, но голова стала удивительно свежа. Проснувшись ни свет ни заря, я немедля бросилась вновь к дневнику, спеша занести впечатления вчерашнего дня – без преувеличения, одного из самых потрясающих в моей жизни.
Описывать подробности эксперимента по прочтению письма у меня не хватит терпения. До сих пор начинает трясти, как только вспомню эту сцену: руки лаборанта растянули кровавую бумагу на пластинке, которую медленно, но сильно нагревают на равномерном огне тигля. Чудится, все собравшиеся перестали дышать… Нет, мне это не чудилось, потому что мы шумно вздохнули разом, когда на побуревшей бумаге вдруг начали проступать темно-серые, удивительно четкие буквы. Разные части письма проявлялись постепенно, так что взор выхватывал какие-то обрывки.
«Сударь… писать складно не обучена… на сердце накипело… сие письмецо… видно, от судьбы не уйдешь… так сердце и замрет… так оно по-вашему и вышло бы…»
В это время засверкали ослепительные вспышки: фотографы жгли магний, спеша запечатлеть проявляющийся текст. Описывать все это долго, а на самом деле не более полуминуты можно было наблюдать серую графитовую вязь на багровой бумаге. Увы, никаких огненных письмен увидать нам не удалось: листок вспыхнул – и в следующую секунду съежился черной горкой бесполезного праха.
– Ну что?! – неистово закричал Птицын. – Успели заснять?
Все три фотографа (среди них, между прочим, был ведущий специалист в этой области – Александр Дмитриевич Карелин: тот самый владелец мастерской на углу Варварки и Малой Печерской, коего я, во время своих первоначальных изысканий, едва не заподозрила как убийцу!) закивали и тотчас принялись стаскивать свои аппараты с треног. Их уже ждала подготовленная лаборатория, где они могли в красном свете достать пластины и проявить изображение. А мы схватились за бумагу и карандаши – и принялись торопливо записывать те слова, которые запечатлелись у каждого в памяти.
Сперва дело пошло бойко. Начало письма сложилось почти дословно, однако вторая его треть запомнилась уже отрывочно, с пятого на десятое, а до конца успел прочесть письмо один только Смольников. Он горделиво щеголял последней фразою послания: «Тогда забудьте поскорее меня, вас недостойную, свое счастье упустившую…»
Сама не пойму, почему у меня от этих слов защемило сердце. Глупости, конечно!
Фраза сия да и общая стилистика подтвердили уже сложившееся у нас мнение: письмо было от женщины низшего сословия, и письмо сие – безусловно, любовное послание.
– Экая она многословная оказалось! – удрученно проворчал начальник сыскной полиции Хоботов, который успел запомнить только одно первое слово: «сударь». – Еще счастье, что все письмо на одной сторонке листка уместилось, а то хороши бы мы тут были, гуси-лебеди!
Да уж… Хоть с этим нам повезло!
И вот из лаборатории примчался Карелин, оказавшийся проворнее прочих фотографов, держа в руке несколько мокрых – с них еще капала вода! – отпечатков. Тусклый, расплывчатый, но вполне различимый текст! Слитный радостный крик вырвался у нас, и мы принялись вслух, хором, выразительно декламировать (о где вы, госпожа Китаева-Каренина?!) строки, представшие пред нами.
Вот они, от начала до конца.
«Сударь мой, прежде вы мне писали, а нынче и я решилась на сие. Не сама, понятно. Хоть я и способна читать, но писать складно не обучена. Да и разве мыслимо высказать все, что на сердце накипело? Пошла я к доброй женщине, писем писательнице, она поняла беду мою да сие письмецо со слов моих для меня и изготовила.
Думала я, сударь, думала и вот что надумала. Видно, от судьбы не уйдешь, а судьба моя – это вы, господин мой ласковый. Чуть вспомню, как вы меня третьево дни на черной лестнице к перилам прижали, так сердце и затрепещет! Кабы не вышел барин, вы б от меня не отскокнули, и верно, тут-то все по вашей воле и вышло бы, потому что пожалела я вас и поняла: против судьбы идти смысла нету.
И вот что вам скажу. Нынче вечером барин мой отъедет аж в Дубенки, заночует там у приятеля своего, ну а коли вы в его отсутствие наведаетесь, тогда все и станется, как вам того желается.
Но, может быть, вы уже передумали? Может быть, только подшутить желали надо мной? Тогда позабудьте поскорей меня, вас недостойную, счастье свое упустившую…»
И все. Никакой подписи.
– Ну вот! – вскрикнул Хоботов. – Все ясно. Простушка-горничная либо кухарка представила нам чудный образец простонародной эпистолы…
– Что-то у меня такое впечатление, ваше превосходительство, – бесцеремонно перебил его Смольников, – будто этот образец эпистолы не к нашему веку относится, а к временам куда более ранним. На мой взгляд, такое письмо не какая-то современная горничная, а бедная Лиза своему Эрасту могла писать, вернее, Наталья, боярская дочь, этому, как его там… – Он досадливо прищелкнул пальцами, и я не выдержала, подсказала:
– Алексею!
– Вот именно! – воскликнул Смольников. – Здесь все нарочитое. Каждое слово надумано. Клюква и очень развесистая литературная клюква! Вы скажете, конечно, что этаким пиитическим штилем могла изъясняться «писем писательница», подделываясь под простонародную речь… Ну что же, не исключено. Вот бы отыскать ее. Глядишь, она и припомнит несчастную влюбленную горничную.
– Надо будет агентов ваших послать, Михаил Илларионович, – обернулся Птицын к начальнику сыскной полиции, и тот буркнул согласно:
– Сделаем!
– Следует также опросить в Дубенках: к кому приезжали гости из Нижнего с 19 на 20 августа, – продолжал городской прокурор.