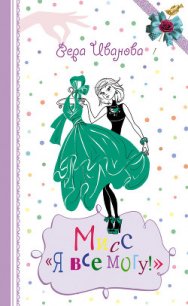Французская мелодия, русский мотив - Скородумова Альбина (книги читать бесплатно без регистрации .txt) 📗
— Да за это все говорят, что бедную сироту батрачить заставили. Василисе, родственнице твоей, бабы уже все косточки перемыли. Нет, говорят, у нее ни стыда, ни совести, не успела девчонку откормить как следует, как уже работать заставляет.
— Дуры твои бабы, глупости говорят, не знают они, что Василиса добрейшей души человек. Просто ничего другого я делать не умею, только коров пасти, и то вот сегодня упустила. А что же мне целыми днями на хуторе делать? Мне здесь очень даже нравится — тихо, покойно, красиво…
— А звать тебя как ?
— Наташа я. А тебя как ?
— Данила.
— А ты что такой чернявый, цыган что ли ?
— Может, и цыган, никто за меня ничего не знает. Я — подкидыш.
— Как это подкидыш ?
— Да очень просто. Нашли меня в корзинке у церкви, тетка Нюра к себе забрала. Так вот у нее и живу.
Мы еще долго проговорили с Данилой в тот день, пока не пришла мне пора гнать коров домой. Говорил он с сильным южнороссийским акцентом, нараспев, произнося букву «г» как «х», используя непривычные для моего уха предлоги. Например, «за это» вместо «про это». Но так говорили здесь почти все, кроме Кузьминичны, которая не один десяток лет прожила в столице. Парнишка был меня старше на два года, но выглядел лет на семнадцать, во всяком случае, мне так показалось. За почти два месяца, что я жила в Малатьевском, это был первый знакомый моего возраста. Все внуки у Григория Кузьмича были малолетними, не старше семи-восьми лет, а чужие на хутор почти не приезжали.
Встреча с Данилой стала самым ярким впечатлением за все время пребывания в тех краях. Как ни старалась Василиса Кузьминична скрасить мое одиночество, ей это плохо удавалось. Поэтому от тоски по матушке и Оленьке, от невероятной хуторской скуки я стала замкнутой и молчаливой. Страдала добрая женщина от этого безмерно. Она даже заказала брату, частенько отлучавшемуся с Малатьевского в соседние станицы, чтобы он привез мне все необходимое для шитья и вышивания. Дед Гриша накупил целый короб всяких ниток, иголок, пуговиц и несколько отрезов ткани. Все почему-то решили, что для меня это будет лучшим развлечением. Жена Игната Татьяна сама неплохо шила, научила меня кроить из ткани, ну а шить и обрабатывать ткань я научилась еще у Дуняши. Однако шитье не стало панацеей от ностальгии, мне все равно было в Малатьевском плохо.
Данила на прощанье попросил не говорить обо мне Кузьминичне, пообещав, что на днях непременно приедет навестить меня и моих непослушных коров. Я же не удержалась и вечером проболталась ей о происшествии. Пришлось рассказать все о Даниле. При одном только упоминании о нем бедная женщина изменилась в лице:
— Тошнехонъки-и-и, да как же это он тебя углядел, откуда прознал про то, что ты коров пасешь?
— Сказал, что все в округе про это знают, говорят, будто я батрачу на вас. Но я объяснила, что это не так. Мне очень даже нравится на луг ходить.
— Нет, теперь ни за что тебя одну не отпущу, не дай боже, антихрист этот глазастый чего дурное с тобой сделает.
— Ничего дурного он не сделает, он хороший. Без него я бы коров ни за что не собрала…
— Хороший, много ты понимаешь в людях-то. Про него знаешь, чего рассказывают, будто он колдун. Посмотрел на козу Матренину с Лопухинского хутора, она на третий день и сдохла.
— Ой, а при чем тут Данила ? Может быть, коза от болезни какой померла.
— Да с чего бы ей помирать-то, здоровая коза была. Просто Матрена на него прикрикнула, чтоб он мимо ее хаты на коне своем бешеном не носился туда-сюда. А ему, видать, не понравилось, он на нее взглянул, как молнией сверкнул. Не глаза, а уголья раскаленные. Матрена сразу почувствовала, что ей не сдобровать. Вот он хворь на козу и накликал.
Слушала я бредни про Матренину козу, а сама думала, что Даниле больше делать нечего, как козу несчастную душегубить. А вот про глаза точно Кузьминична подметила, действительно, как уголья раскаленные были, когда он меня у ручья будил.
На следующий день пасти я не пошла, отправили бедолагу Петра, меня же Татьяна за шитье усадила. Так продолжалось недели две, пока я не уговорила деда Григория вновь отпускать меня на луг. Страсти потихоньку улеглись, к тому же я перешила все, что только можно было мне поручить. Татьяна без устали нахваливала меня. Признаюсь, я даже кое-чему ее научила. Хотя Дуняша велела мне все портновские хитрости, которым она меня обучила, держать при себе. Никак не могла понять — что может быть плохого в том, что еще кто-то будет шить так же, как и ты ? Поняла это только в Париже, когда матушка стала работать в театре Елисейских полей. Вот где знания, полученные у Дуняши, оказались спасительными. Только благодаря портновским хитростям матушка смогла получить там хорошую работу. Она умела вышивать такие необычные узоры шелковыми нитями, от которых даже у придирчивых француженок глаза загорались от восторга.
Каждое утро, собираясь на работу в поле, я прихватывала лишний кусок чего-нибудь вкусненького, чтобы угостить Данилу. Все-таки сирота, наверное, недоедает. Однако Данила на лугу больше не появлялся. Я решила, что просто уже не интересна для местного населения. Посмотрели все на столичную дурочку и успокоились, ничего особенного во мне нет, вот Данила больше и не появляется. Но все было совсем не так. .
Оказалось, Данила сразу понял, что я все рассказала Кузьминичне, так как на следующий день вместо меня па лугу встретил Петра. Петруша тоже побаивался «приблудного цыгана», как все здесь называли Данилу, и как умы, так и послал его куда подальше. Мой новый друг обиделся и на меня, и па придурковатого Петра. Поэтому и не появлялся больше па лугу. В следующий раз мы уже встретились с ним зимой совсем при других обстоятельствах…
Перемена климата сыграла со мной злую шутку. Я не привыкла к тому, что в ноябре стоит роскошная теплая пора — никакого снега и мороза, солнце светит весь день, с улицы уходить не хочется. Не то, что у нас в Петрограде — в пятом часу уже темно, сыро, а иногда и морозы под двадцать. В Малатьевском в ноябре били уток, и мне приходилось выполнять несложную, но и не совсем приятную работу — перебирать утиные перья. Вернее, перья отбрасывать в один таз, а пух — в другой. Кузьминична шутила: «Это тебе на перину, в приданое». Видно, за этим занятием я и подхватила воспаление легких. Сначала болезнь проходила незаметно, я ощущала лишь легкое недомогание и потерю аппетита, а недели через две мое состояние резко ухудшилось. Меня бросало то в жар, то в холод, тело ломило, к тому же одолел сильный кашель. Дед Григорий привез фельдшера, по толку от этого было мало. Бедная Кузьминична день и ночь молилась у лампадки за ее здоровье, ночей не спала, сидя у моей постели.
Решено было отвезти меня в Лопухинский хутор на лечение к бабке-знахарке. Старушка жила в маленькой избе, закопченной и совсем не беленной известью. На стенах висели пучки сухих трав, отчего в комнате, куда меня уложили на старый колючий тулуп, стоял удивительный весенний запах. Накрыли меня какой-то овчиной. Помню я только этот запах и удивительное ощущение тепла, исходящего от овчины.
У знахарки Евдохи я пролежала несколько дней в почти бессознательном состоянии. Сквозь дремоту слышала бормотание, чувствовала запах тлеющей травы. Изредка бабка растирала меня жиром, очень неприятно пахнущим, но после этой процедуры мне становилось легче. Однажды я открыла глаза, потому что почувствовала чей-то взгляд, и увидела перед собой испуганное лицо Данилы. Он сидел рядом со мной с мокрым рушником и вытирал со лба пот.
— Ну вот, оклемалась, наконец, — сказал он с улыбкой, — вишь, как пот побежал, значит, дело на поправку пошло. Говорить-то можешь»?
— Могу, наверное, давно не пробовала, — прошептала я, — а ты чего тут сидишь?
— Зашел тебя навестить, как только Кузьминичну увезли. За ней сегодня дед Григорий приезжал, увез в бане попариться, суббота ведь. А то она с твоей болезнью сама скоро сляжет.