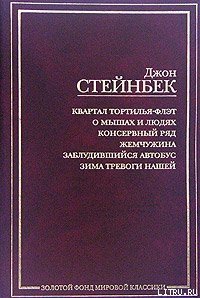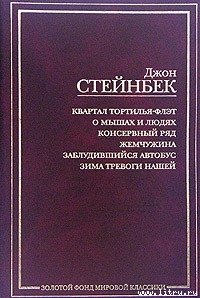Человеческое и для людей (СИ) - Тихоходова Яна (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
А что не познаешь, то тебе и не требуется. Сам ведь небось быть познанным целиком — до самого конца, до самого своего темнейшего дна — желаешь-то не особо.
Демьен де Дерелли «Спор холодности с горячностью»; издано впервые в 1234-ом году от Исхода Создателей
Приближённые Вины опять заявились на Каденвер, чтобы снова поспрашивать, а не обижают ли здесь кого, и жаловаться хотелось ещё меньше, чем прежде, а поскорее и поубедительнее отделаться — неизмеримо больше; и не отложились в памяти ни имя преподобия, с которым выпало разговаривать, ни фамилия, ни нюансы внешности — лишь расплывчатая общая картина и острое, разъяряюще-унизительное чувство несправедливости. Она — они с Этельбертом — не делали ничего дурного или незаконного; не портили ничьи жизни и не совершали зла, так почему приходилось чувствовать себя так, словно тебе есть, что скрывать — почему чтобы защитить и себя, и другого, нужно было цепляться за молчание, которое (нет, таковым ничуть не являясь) казалось неправильным?
(Давние издевательские шутки над формулировкой «был вынужден» перестали быть смешными болезненно и очень-очень резко.).
(И преследовала везде, на каждом шаге — навязчиво, неотвязно, неотступно — ужасающая мысль: а вдруг она чем-то себя — их — выдала. Заставила заподозрить и начать докапываться; лезть в чужое глубоко личное и тогда что: перед кем доведётся без вины отвечать в первую очередь Этельберту — перед Ирлинцем? Ферионом? Ими обоими? Всеми проклятыми шестнадцатью?..).
Когда чернота, вдоволь дознавшись и допросив, без каких-либо претензий схлынула обратно в свой Оплот, она вздохнула с облегчением опьяняющим и окрыляющим и подумала: «Пожалуйста».
Я понимаю, что вы исполняете долг. Я понимаю, что вы хотите, как лучше. Я понимаю, что ваши ревизии и осмысленны, и оправданны, и служат вроде бы нашим интересам.
Но ради Неделимого, пожалуйста; прошу, увещеваю, умоляю, подаю официальное ходатайство, как вам будет угодно — только не возвращайтесь.
***
Было что-то… тоскливо-трагичное в том, что первыми в гостевую переехали бумаги — в том, что неизменными спутниками Этельберта являлись именно они.
В том, что он терпеть не мог — в принципе словно бы не особо мог — сидеть без дела, которое казалось ему неким образом полезным.
Нет, благие намерения его посещали: он, как нормальный человек, устраивался на диване с книжкой, к работе отношения не имеющей, или включив музыкальный транслятор, или даже просто так, с закрытыми глазами, чтобы дать им отдохнуть — однако спустя крайне короткое время либо начинал интересоваться, не нужно ли чем-то помочь, либо опять брался подписывать, зачёркивать, чертить, набрасывать и считать, и Иветта сильно сомневалась, что всё это было срочным.
(Иногда она сомневалась в самой целесообразности, но тут же себя одёргивала: Этельберт, будучи Хранителем, продолжал оставаться Приближённым — связанные с Оплотом обязанности с него никто — вроде бы — не снимал, и то, что походило на суетливый поиск хоть какого-нибудь занятия, таковым вполне могло и не являться. В конце концов, а ей-то откуда знать — она ведь очень старательно не смотрела, что, кому, куда и по какому поводу он пишет.).
И он всё-таки умел иначе — его просто нужно было попросить.
Однажды — в один из первых дней — он проснулся в рань абсолютно чудовищную, и наверняка случайно, совсем того не желая, вытянул в реальность и её тоже, и прошептал: «Ш-ш-ш, спи, я приготовлю завтрак», — и вот кто, ну кто так поступает-то, а? Какой завтрак, когда Соланна из-за горизонта выглянула лишь едва-едва и ты в постели не один, зачем и ради чего — и она, вжавшись в него, тёплого, расслабленного, пахнущего можжевельником и неописуемо самим собой, пробормотала: «Останься».
И он после паузы тревожливо, смущающе длинной ответил: «Хорошо», — мягко, хрипло, ласково, словно растроганно, она аж очнулась по-настоящему, но, впрочем, ненадолго: побудешь тут бодрым, в — примерно — шесть пополуночи и когда тебя осторожно и размеренно гладят по спине; не вышло бы, даже если бы хотелось — и жаль, что воспоминания сохранились разорванно-мутными; такими же, каким тогда было само сознание.
(Честное слово, добровольно в шесть утра могут просыпаться только целиком отбитые извращенцы. Как и пить кофе настолько с молоком, что его было бы правильнее назвать молоком с кофе.).
(Позже, когда она отодралась от кровати во время гораздо более здравое, Этельберта в доме уже не было — а завтрак всё же ждал, разогревай да ешь; вот ведь заботливый, добропамятный, восхитительный у-пря-мец.).
Он плохо отвлекался сам, однако легко соблазнялся предложением отвлечься вместе, и для неё неравной была игра в шахматы, а для него, как предсказуемо выяснилось — покер. Нет, Иветта могла составить компанию, но уступала, — очевидно и значительно — потому что ей катастрофически не хватало терпения, тем более — в сравнении с оппонентом.
Бедный Олли: он пытался научить её играть в покер достойно, но в итоге напоролся на полную несовместимость с темпераментом.
Сначала, узнав, что слова «комбинаторика» и «теория вероятностей» не вызывают ни у кого ни испуга, ни недоумения, он жутко обрадовался и, сжато изложив основные идеи, потащил её в клуб, потому как «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» — и сел за стол, и лукаво ухмыльнулся, и начал демонстрировать то, о чём говорил… на личном примере показывать, что чтобы выиграть, бо́льшую часть стартовых рук нужно сбрасывать сразу же.
На него было приятно смотреть. Всегда, но в тот вечер — особенно, ведь он занимался тем, что знал, умел и искренне любил, и вдохновение красило его, как любого человека, десятикратно, стократно, тысячекратно, однако…
Вот серьёзно.
Для тебя «играть» — это семь раз из десяти немедленно выходить из игры и сидеть и наблюдать за соперниками, которым повезло больше, чем тебе.
Да чтобы найти «игру» скучнее профессионального покера, нужно было неслабо так постараться.
К счастью, чем меньше народу участвовало, тем меньше каждый мог позволить себе изначально пасовать, и потому интимный тет-а-тет шёл ощутимо веселее, но даже он не прощал убеждение, что лучше сделать и жалеть, чем не сделать и сожалеть о нерешительности — желание плюнуть и рискнуть, потому что так интереснее, которому Иветта поддавалась везде и вечно, а уж в играх и подавно, ведь в них, как ни ошибайся, не потеряешь ничего, кроме времени.
(Она никогда не играла на деньги: это казалось неправильным и в принципе, и потому, что у неё вообще-то не имелось своих.).
А Этельберт, разумеется, беспечным безрассудством не страдал: он считал (и ещё бы, являясь управляющим, с задачей не справлялся), читал оппонента (который свою стратегию отсутствия стратегии и не скрывал) и держал лицо каменным максимально (умение, которое неожиданным нет, не оказалось, но за… Неделимый, уже месяцы успело подзабыться) — играть с ней ему наверняка было так же скучно, как ей — сидеть в том клубе рядом с Олли.
(Жаль. Правда, жаль: Этельберт тоже любил покер горячо и искренне, и порадовать его хотелось, но за три с половиной года Иветта Герарди, увы, ни капли не изменилась.).
И странно, что ему понравились «Радужное зеркало» и «Золотой город» — настольные игры, в которых побеждала главным образом удача, а не ум; Иветта их и обожала за яркость, динамичность и, что уж там, незатейливость: с ними, в них, можно было целиком расслабиться и отдаться на волю случая, и с владелицей всё ясно, но почему подобное сочетание привлекло Этельберта?..
Которому если не везло, то фатально.
Который мог взять кубик и выбросить единицу четыре раза подряд.
Она тогда на него вытаращилась совершенно ошалело — у неё небось чуть ли не на лбу было написано «Да как ты умудрился-то, человече, это же… шесть на шесть, и на шесть, и на шесть — один шанс из больше, чем тысячи», а он… хохотал так, что едва не свалился с дивана.