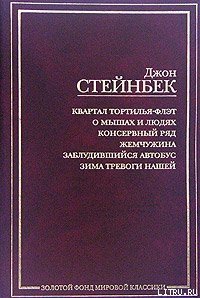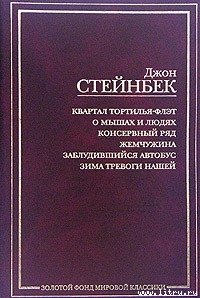Человеческое и для людей (СИ) - Тихоходова Яна (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
Позиция его сильнейшества тоже была однозначной: «Нет, это очень грустно, конечно, это настоящая трагедия, но откуда ж вы могли знать, когда даже мы не знали? Если кого винить, то нас… и Создателей, которые эти тоннели сотворили, и вот на кой? Ладно Вежские или Увермандские, те хоть красивые; заслуженные достопримечательности, а эти-то — зачем, да ещё и под проклятым полем? Я подниму архивы, попробую что-нибудь раскопать — расскажу тебе, что разузнаю, если тебе интересно… Но я отклонился от темы. Друг мой, я со справедливейшим Ферионом солидарен: вы ни в чём не виноваты точно — и уверяю, никто вас и не винит: ни мы, ни ваши собратья во Приближении… Разве что родители, пока горе свежо, но это иррационально, ты же понимаешь».
И нет, на самом деле он не понимал, что здесь было иррациональным.
За… десять, Создатели милосердные, десять с лишним месяцев он ни разу не встретился с теми, перед кем провинился катастрофически — почти за год он так и не попросил у них прощения, хотя какой прок от его сожалений, разве стало бы кому-нибудь легче от убогого набора пустых слов?
Не стало бы — и ему самому легче заслуженно не становилось.
Сначала он пытался продолжать работать, но другим было с ним… некомфортно; он — что хуже всего — не виделся им преступником, нет: большинство воспринимало его как ещё одного потерпевшего — жертву обстоятельств, с которой неуютно разговаривать, как-то иначе взаимодействовать и просто находиться рядом.
Злая насмешка природы: сторона потерпевшая и сторона, нанёсшая ущерб, вызывают у людей чувство неловкости разной, но одинаково — шарахаться человеку, по причинам, которые он вечно не может объяснить, свойственно как от второй, так и от первой.
Его чурались, ему смущённо соболезновали, с ним были чересчур деликатны — Этельберт ощущал себя… заразным и в итоге, вспомнив, что является и по образованию, и по роду деятельности управляющим, выписал себе саббатикал.
Который так же самовольно прервал через месяц. Потому что праздность оказалась врагом ещё более страшным, чем отторжение.
Вернувшись в Оплоты, занимался он в основном всякой ерундой: закапывался во второ-, а то и третьестепенные бумаги, лез в мелочи, с которыми разобрались бы и без него, упрямо отмахивался от попыток его сильнейшества «поговорить об Агланне» и в конце концов получил приказ возглавить «наступление» на Каденвер, что наверняка было… рукой помощи — экстравагантной, как тот, кто её и протянул.
И что ж, его отношения с Себастьяном улучшились — если можно назвать «улучшением» переход от многолетнего избегания к напряжённым беседам, в которых главное замалчивается и обходится, а неважное упирается в сомнения, неопределённость и стыд.
Впрочем, а чего он хотел — и нельзя не заметить, что лёд всё-таки медленно, но неуклонно таял.
Кстати, нужно будет наведаться в Оплот Надежды: узнав, что ситуация с Приближёнными с их последней встречи изменилась не особо, Этельберт как мог осторожно спросил, не обращался ли Себастьян к менталисту и не пробовал ли по его рекомендации какие-либо зелья или сочетания трав, ведь навязчивый страх возрастом почти в полвека вряд ли можно считать… вписывающимся в норму. И ответ на оба вопроса был утвердительным, однако от препаратов пришлось отказаться, потому как они «затрудняли мыслительный процесс» и вместе с ним научную деятельность, чего амбициозный магистр, естественно, терпеть не желал — ограничение контактов с избранниками Архонтов представлялось ему потерей меньшей.
Ложная дилемма: здесь не обязательно выбирать, совсем не необходимо поступаться — подходящая комбинация в случае, когда химическое вмешательство всё же требуется, редко подбирается одним махом, но время и терпение побеждают если не всё, то очень и очень многое. Первого у Себастьяна теперь предостаточно, а недостаток второго сглаживается поддержкой и принятием извне — не всегда, однако попробовать стоит.
И Этельберт был готов — попробовать.
Восхитительная решимость, вот только где она была раньше? На Каденвер тебя отправил его сильнейшество и с Себастьяном тебя свёл — его сильнейшество, так чем ты гордишься, Этельберт Хэйс…
Что сделал ты ?
Он помог Иветте Герарди. В… некотором роде.
С ней, к счастью, целителей и препараты обсуждать не доведётся: проблема заключалась лишь в ошибочных убеждениях, которые лечатся наблюдением, познанием и сотрудничеством — и ей ещё только предстоит восстанавливать отношения с матерью, но если дочь любит, нужно, наверное, ошибиться сильнее, чем Вэнна Герарди, чтобы всё рассыпалось в труху непоправимо; чтобы дочь перестала любить.
И он очень зря думал об этом: во-первых, семейные — глубоко личные — дела других людей его, хоть и несколько касаясь, не касались. Во-вторых, подобные размышления напоминали о бестактности несравненно весомей.
О том, что он испытывал к Иветте Герарди — Иветте-тетиве — приязнь… большую, чем следовало бы. Чем было достойно — к молодой девушке, которая не так давно боялась его как Разрыва, продолжала находиться в зависимом от него положении и, естественно, даже не собиралась отвечать взаимностью.
Которой он не мог ничего обещать. Которая парадоксально заставляла его чувствовать себя человеком без шелухи управленческой и уж тем более Агланнской. Которая ему доверяла, и чтобы переосмыслить неверные заключения, нужно уметь смотреть, слышать и признавать неправоту — оскорбительным неуважением было бы отрицать её собственные заслуги.
Она раз за разом соглашалась разговаривать с тем, кто вызывает у неё отвращение и страх, задавала вопросы и не игнорировала ответы, а когда ты явился навязывать Волю, бросила тебе вызов — единственная из всех.
А что сделал ты?
«Молодости свойственно», — заметил его сильнейшество: а зрелости, очевидно, нет — зрелость предпочитает осторожность, и мудрость, и взвешенность решений, и разве не крылось в сущности, за этими красивыми словами, нечто… порочное?
Двадцатисемилетняя студентка взялась за ритуал, сложность которого неизмеримо превышала её способности, и предсказуемо потерпела неудачу — но она хотя бы попыталась дать отпор, пока мастера и магистры прятались за стенами Университета; и, наверное, весь мир признал бы их поведении более разумным, но было ли оно более правильным?
И окрылённый оправданностью захватчик изначально презирал её, потому что считал, что она слишком многое себе позволила… или потому что, сам того не осознавая, завидовал смелости и хотел всеми правдами и — в первую очередь — неправдами её обесценить?
А, Этельберт Хэйс?
«Я только трачу своё и чужое время и занимаю место, которое кому-то другому было действительно нужно».
А что делаешь ты?
Он занимает кабинет, которого не заслужил.
Пользуется статусом, который начал подтверждать значительно позже, чем следовало, и не подтверждает вот уже почти год.
Является трусом среди трусов, который, запугивая молодёжь, заставляет её создавать проклятые порталы — не объясняя причин, требуя слепого повиновения, добиваясь своего невысказанной, но явной угрозой силы, и разве это называется «зрелостью» и «ответственностью»?
Разве этим он хотел быть? Нет?
А почему получилось-то — так?
«А ты проведи утешительную философскую беседу с сариниллой — не тушуйся, она же хрупенькая, точно-точно тебя не съест».
И только на приятную, но ничего не меняющую болтовню с тем, кто заведомо слабее, тебя и хватило.
А что ещё он мог сделать? Что?!
Ослушаться приказа его сильнейшества было глупо, бессмысленно и так же бесполезно, раскрытие подоплёки нынешней Воли грозит паникой, Себастьяну помогут скорее квалифицированные специалисты, а трое детей умерли — сгорели дотла в подземных тоннелях больше десяти месяцев назад, и их не вернёшь; не оживишь, не возместишь, не обернёшь время вспять — так что он должен был делать?!
Ему до сих пор снилось пламя, сжигающее его самого — безболезненно и быстро; буквально за считанное мгновение, потому что таковы его свойства и суть, и утешало лишь это, и не забывалось — ничто, и слово правителя Оплота Вины всегда, без каких-либо исключений — последнее слово, так что. Теперь. Делать. Этельберту Хэйсу?!