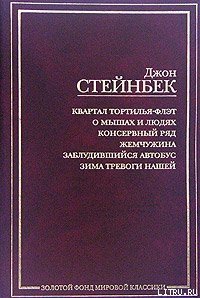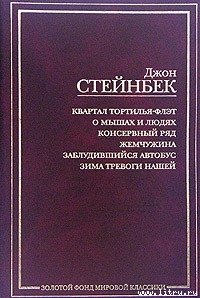Человеческое и для людей (СИ) - Тихоходова Яна (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
— Приближённый Уверенности Тарьятти, к вашим услугам.
И Иветта, раскрыв и так распахнутый рот ещё шире, выдавила:
— А-а-а-а почему не Надежды?
Максимильян Тарьятти занимался болезнями лёгких, Оплот Уверенности — картографией и почвоведением; как были связаны эти вещи, где логика, почему и зачем, дапри чём здесь вообще Уверенность?!.
Знал ли Хранитель Краусс? Не мог не; должен был — Неделимый, сколько представителей Оплотов ходило по Каденверу ещё до ночи тройного «П»?!
(К скольким она за свою жизнь привязалась, скольких полюбила, не зная, что общается с Приближённым? Этельберт рассказывал, но она не осмыслила полностью, не рассмотрела досконально, не задумалась крепко…).
Этельберт рассказывал, что все они рано или поздно хотя бы пробуют учить, ведь чем больше знаний, тем сильнее желание ими делиться, однако Тарьятти преподавание не любил — не ненавидел, но и нежных чувств не питал; в целом дышал ровно, так зачем ему?..
— Работаю я, если работаю в Оплотах, действительно в Оплоте Надежды, — пожал он плечами. — Но приближен к её сильнейшеству Ингаре… ввиду личных предпочтений.
А что, так разве можно?
И… что, простите, это, ничего не объясняя, означало?
Чьих личных предпочтений и каких — нет, нет уж, нетушки, не её проблема, забота или дело; чужой выбор, который никак её не касается и размышлять о котором очевидно себе. Дороже.
— Продолжать скрывать свой титул я не вижу особого смысла: когда мои коллеги уйдут, я останусь на Каденвере в качестве официального доверенного лица Архонтов. Месяцами раньше, месяцами позже… Я — Приближённый, эри Герарди. Который никогда и ничем вам не вредил — и как Приближённый, который никогда и ничем вам не вредил, я спрашиваю вас: какова же причина вашей неприязни к нам и как следствие — ко мне?
Его… явно достали. А она вконец довела.
И сначала, глядя в его кажущиеся чёрными глаза и видя слабый румянец на смуглых скулах, Иветта почувствовала смущение и стыд. Затем — абсолютно неуместное желание захихикать, потому что информация-то у него была устаревшей: она давно не испытывала неприязни к Приближённым вообще и Максимильяну Тарьятти в частности, она просто неудачно пошутила — знатно облажалась, как ей было свойственно, и вышло не смешно, но смешно, потому что «Коротко об Иветте Герарди», вот почему.
А затем — холодную, звенящую, желчную злость.
Иветту Герарди уже спрашивали об этом — об этом и, не догадываясь, о другом, но об этом же. И она частично не смолчала в кабинете Хранителя, чтобы потом, в Гроте Для Размышлений О Тщете Всего Сущего, полностью проглотить.
— А по-вашему, захватывать небесные острова и отправлять магистров в Оплоты, потому что пять Хранителей задали уточняющий вопрос — это нормально?
«И не вы решили, но вы исполнили — откуда же у Каденвера, не у меня, не надо примитизировать, а у Каденвера, к вам неприязнь?»
И учебная аудитория не была Гротом, а Максимильян Тарьятти не был Этельбертом Хэйсом — Иветта Герарди же оставалась Иветтой Герарди.
Которой. Смертельно. Надоело. Прятаться. За. Тишиной.
— По-вашему, запирать матерей в Оплотах — это нормально?
Ей было двенадцать, и она не понимала, но чувствовала, не осознавала, но не могла стряхнуть ощущение; и мама вернулась домой через год — живой, невредимой, свободной, как и было обещано, однако любые обещания до их исполнения — это всего лишь слова; и она не помнила лиц тех, кто её забирал — не знала имён тех, кто пришёл за ней, снилось ей — только красное, красное, красное, как кровь, всегда, в первую очередь — хлещущая кровь…
— Вламываться в чужой дом. Забирать человека.
…и папа, криво улыбаясь, говорил, что всё будет хорошо, и курил в полтора раза чаще, чем обычно, и читал вслух письма, которые приходили регулярно — и вместо крови ей начала сниться тень, стоящая за спиной и диктующая слова…
— А потом спрашивать у дочери. Откуда неприязнь. Нормально?!
…и не вы решили, да, разумеется, не вы — но вы исполнили.
Тарьятти смотрел на неё снизу вверх, потому что она — в какой-то момент — умудрилась вскочить; пялился с изумлением, с приоткрытым ртом и вытаращенными глазами…
Не ожидал? Ох, ну прости, что я ничего не забыла!
Сглотнул — и прохрипел:
— Вы о чём?
И хотелось орать. Визжать, разнести в щепки стол, схватить кое-кого за шею и трясти — вытрясти весь воздух, и дурь, и дух…
— Вэнна Герарди. Тысяча. Двести. Семьдесят. Седьмой. Год. — То, что она могла говорить, причём достаточно чётко, было чудом.
Тарьятти моргнул. Попялился ещё. И ещё раз моргнул.
Давай же, давай, вспоминай…
И пробормотал:
— Так кто её запирал-то тогда? Сарину Герарди попробуй запри. И с чего бы? Повторюсь, вы о чём?
О, как будто бы сильнейшие мира не могли удержать человека, который да, не умел сидеть в четырёх стенах, и при любом другом раскладе — и впрямь попробуй запри, уговори не уходить, убеди остаться — мама не…
Не умела не расставаться хотя бы на время. Не умела хронически.
Не умела никогда.
— Почему она не возвращалась домой?
— Я… понятия не имею.
Он не понимал — действительно искренне не понимал.
Поверить ему было пугающе легко — и мир не рухнул.
Небо не упало на землю, та не разверзлась, не расплавила стены лава и не снесла окна волна; и Максимильян Тарьятти мог чего-то не знать, он и не знал того, что ему знать было неоткуда — и потому в своём недоумении был совершенно прав.
И как долго уже ты, чувствуя дыхание этой правды, боишься обернуться и посмотреть ей в глаза?
— Эри, с вами всё в порядке? Мне кажется, вам лучше присесть.
«И вы туда же. Нет — спасибо, но нет».
Вместо того чтобы присесть, Иветта схватила зачётку, сдёрнула со спинки стула сумку, быстро проговорила:
— Извините. Извините, я не испытываю к вам неприязни, мне жаль и мне нужно идти.
И чуть ли не выбежала из аудитории, оставив, наверное, только одно: впечатление глубоко и неизлечимо сумасшедшей.
***
Подъёмник проносился мимо ярусов стремительно: слепливал и без того монотонную серость в завесу пыли, сквозь которую лишь изредка пробивались голубо-оранжево-изумрудные огни — впрочем, возможно, свету просто было тяжело достучаться до смотрящих глаз через завесу совсем иную…
Зачем?
Иветта сжала переносицу и запрокинула голову, отказываясь лить и сопли, и слёзы.
Не сейчас — у неё имелись дела.
Ей нужно было уточнить.
Зачем?
Реветь перед Хэйсом в принципе не стоило, он ничем того не заслужил — перед Этельбертом, который её не ждал, и мог быть занят, и тоже не знал того, что ему знать было неоткуда…
Зачем?
Он не был занят.
(Или был, однако всё равно решил впустить — зря, но ничего: времени она отнимет не много.).
Почему-то хотелось вжаться спиной в дверь, но тогда ведь пришлось бы кричать через полкабинета — почти орать дурниной и биться в истерике, и разве же разумно, зная о разворачивающейся по соседству бездне, вдохновенно мчаться к самому краю, чтобы посмотреть, а что же там у неё, бездонной, на дне?
Нет — и поэтому Иветта всё-таки подошла к столу.
(Её ноги по пути застревали то в камне, то в воздухе, то в ковре.).
— Иветта? Что случилось?
А с её лицом творилось что-то совсем неладное, да? Надо, наверное, хотя бы попытаться сложить его во что-нибудь… благожелательно-естественное.
— Моей маме… когда она была в Оплотах в семьдесят седьмом… запрещали возвращаться домой?
Она буквально чувствовала, как у неё ничего не получалось.
И Этельберт посмотрел на неё, как Тарьятти: снизу вверх, пусть и в несколько меньшей мере, ошарашенно, растерянно и приоткрыв рот — и сдавленно произнёс:
— Конечно же, нет. С чего вы так решили?
Замечательный вопрос. Очень и очень… правильный.