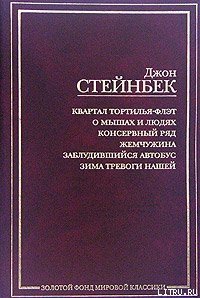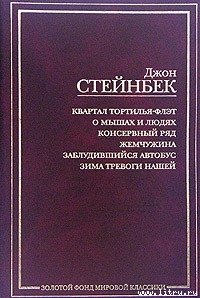Человеческое и для людей (СИ) - Тихоходова Яна (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
— Третий день следующей декады? В семь вечера?
Но Этельберт Хэйс предсказуемо оказался непредсказуемым.
— Да. Да, ваше преподобие. Спасибо. Хорошего вам вечера.
— И вам, эри Герарди.
Обернулась она уже у самой двери — остановилась, выпрямилась и отказалась мяться и молчать, потому что её снова впустили, снова выслушали, снова так или иначе успокоили; ей протянули руку и снова согласились на встречу, и разве она хоть раз попыталась (намеревалась) облегчить работу и жизнь тому, кто упрямо не делал ей ничего дурного?
…намерение: изменяющее — перенаправить, перераспределить, ослабить натяжение; намерение: созидающее — стекло, снегопад и мягкий, естественный свет…
Она решилась задержаться ещё на мгновение, потому что нельзя было просто уйти.
— Ваше преподобие, я прошу прощения. За составы… И за вмешательство в ритуал передачи. Мне не следовало… Мне не следовало. И мне правда очень жаль.
И Хэйс, снова улыбнувшись, ответил:
— Как мы с вами уже обозначили, эри, никто не пострадал. А также имели место… смягчающие обстоятельства. Вам не за что просить прощения — но если оно вам нужно, то разумеется. Считайте себя прощённой, Иветта Герарди.
Судя по облегчению, накатившему волной ласкающей и тёплой, оно ей действительно было нужно.
Улыбнувшись тоже (так широко, как только могла), она кивнула и вышла из кабинета Хранителя — и направилась к подъёмнику, размышляя о превратностях судьбы и ходячем противоречии: о Воле Архонтов и выборе их представителей, об обязанности пугать и стремлении утешить, о резких линиях и вежливых словах — и о высказываниях ужасающих, и абсурдных, и трогательных, и смешных, и совершенно уникальных…
Да как же ты существуешь-то, Этельберт Хэйс?
Глава 12. Как живут люди
…зачастую мне кажется, что я имею дело с детьми; и Ирлинц был бы самым инфантильным из них, если бы не его без преувеличения выдающаяся самоосознанность. Эндол, ваша с ним игра в переманивание Приближённых — исключительно ваше личное дело, однако молю: не трогай его управляющих. Ему они стократ нужнее, чем тебе.
Из письма второй Архонтессы Любви Кардицеллы третьему Архонту Страха Эндолу; Феврер 971-ого года от Исхода Создателей
…касательно же твоей просьбы: Кардицелла, свет наш и сталь наша, уверяю тебя, я прекрасно знаю, где проходит грань между «игрой» и «издевательством», и преступать её не намерен. Нет у меня для того ни желания, ни повода, ни даже нужды: мои собственные управляющие ведь ничуть и ничем не уступают управляющим милейшего Ирлинца — и с обязанностями своими справляются поистине блестяще.
Из письма третьего Архонта Страха Эндола второй Архонтессе Любви Кардицелле; Феврер 971-ого года от Исхода Создателей
Она знала, что это было глупо и не имело особого смысла, но всё равно решила косвенно прикоснуться к одному из Оплотов: почитать книги, которые точно — наверняка; на уровне установленного, проверенного, никогда и не скрываемого факта — были написаны Приближёнными Страха.
(Разумеется, не впервые в жизни: не денешься никуда ни от школьной программы, ни от культурных явлений, о которых говорят чуть ли не все, а значит, с ними нужно ознакомиться хотя бы для того, чтобы не выпасть от мирового потока — и обычно Иветта не заостряла внимание на личности автора, потому что та не имела значения, но теперь причинно-следственная связь инвертировалась: стоять во главе угла и хозяйничать стало не название, а имя… и всё, что с ним было — наглухо, накрепко, намертво — неразрывно связано.).
Керра Дероль выдумала девочку Эмили: сироту, видевшую, как все, кто был ей дорог, горели заживо, и от боли и отчаяния утонувшую в трясине собственного разума — забывшую всё, кроме своего имени, заблудившуюся в фантазиях, которые с каждым днём становились мрачнее и отвратительнее; и целитель, старый друг семьи, по долгу звания обязанный помочь ей, почему-то, наоборот, словно бы пытался свести её с ума окончательно и бесповоротно — но поняла это Эмили лишь спустя месяц, а чуть позже догадалась и о причине: сумев вспомнить прошлое в целом, она вспомнила и лицо поджигателя, и было оно — разумеется; как же логично, предсказуемо и ужасающе гнусно — его лицом.
Джон Ильверстон сотворил абсурдный мир, населённый странными существами, умеющими читать мысли и останавливать время — и один из них, Ашх-гал-жей-Назола, по трагической случайности ошибившись во втором, запер себя в замкнутой, обречённой повторяться петле, но даже осознав, что сделанное непоправимо, не утратил оптимизма: он умудрялся проживать один и тот же день совершенно по-разному — снова и снова находил нечто новое в незыблемых предпосылках и неизменных обстоятельствах, всегда смотрел только вперёд и упрямо решался действовать, даже зная, что не сможет ни на что повлиять, ведь утром всё станет-вернётся прежним — и погиб, так и не вырвавшись, однако ни о чём не сожалея.
Кархан ади Зенал-Игали написал о вымышленной Тысячелетней Войне: борьбе всех со всеми, длившейся настолько долго, что люди успели забыть, с чего она началась — не могли ответить, за что они умирали и почему, и одновременно (равно настойчиво и также беспричинно) не могли и остановиться. Грен Гирцагле рассказал историю Седа Оли и Аши Ихэ: юных влюблённых, которых едва не разлучило древнее необдуманное обещание Патриарха семьи Оли-Ангал — давным-давно сгинувшего Повелителя Песка, и в мавзолее продолжившего разрушать чужие жизни; но справедливо обратились в прах жестокие и безрассудные слова, столкнувшись с клятвой хранить и оберегать — даже вопреки высочайшим из несуществующих сил. Жанна Дирэ воспела проклятого бессмертием шута Блука: ядовито саркастичный и неизменно сострадательный, он радовал остротами и поддерживал советами тех, кого считал достойным, и в тайне, из теней, противостоял выбравшим путь слепоглухой тирании — и в конце концов, после тридцати сотен лет, ухитрился, обманув капризных, уродливых, беспечных как дети и беспощадных как мороки Создателей Иного Мира, обрести заслуженный вечный покой.
Как и следовало ожидать, между ними не было ничего общего — кроме, конечно же, того, что привлекало Надзирающего-над-Словами: яркого, ощутимого, парадоксально неописуемого таланта, признанного людьми и проверенного — неоспоримо беспристрастным временем.
Приближёнными Страха становились отнюдь не за красивые глаза.
Иветта с большим удовольствием поумилялась, повосхищалась и даже (в чём не стыдно признаться) проплакалась, но стоя перед дверью в кабинет Хранителя снова, сейчас, спустя оговорённые пять дней, знала не больше, чем когда выходила из него — те же пять дней назад.
(Интересно, избранные его сильнейшеством Эндолом не тащили в свои тексты Оплоты, потому что физически не могли, или потому, что им было банально скучно писать об обыденном?).
(Или всё же тащили, просто она не видела этого, так как не умела смотреть… неким «правильным образом» — то есть именно туда, куда ищущему «следовало смотреть»?).
Неважно: ничего уже не изменишь — оставалось только плыть по течению, которое сделает всё, чтобы не позволить тебе сменить курс кардинально… однако не способно запретить сдвинуться немного вправо или влево; которое затрудняет контроль над направлением, но не имеет ни власти, ни намерения, ни причины отобрать его абсолютно.
(И даже желания — не имеет; впрочем, это уже другая, более частная аналогия.).
Иветта глубоко вдохнула. Медленно выдохнула. Прикоснулась к плите обращения. Дождалась разрешения войти. Поздоровалась и села в одно из кресел перед столом.
И почувствовала себя запертой во временной петле, а потом — замурованной дважды, ведь смотрел Хэйс не на неё: он (опять) начал оглядывать кабинет с выражением, которое не поддавалось разбору на составляющие, но в целом считывалось как явное неудобство; и Иветта уже видела его, и помнила, что случилось после, и не понимала, почему Неправомерный Хранитель молчит, и продолжает молчать, и продолжает…