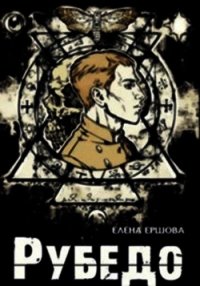Альбедо (СИ) - Ершова Елена (читаем полную версию книг бесплатно .TXT) 📗
Взгляд оставался испуганно-растерянным.
— Что такое? Коко, я не понимать…
— Вы беременны? — настойчиво спросил Генрих. — Ждете ребенка? У вас будет ребенок?! Признавайтесь!
Он стиснул ее рукав, и щеки принцессы полыхнули прозрачным румянцем.
— Ребенок, — повторила она, дрожа и скользя ладонями куда-то вниз, мимо руки Генриха, по складкам пеньюара, к животу. — Да. Он будет у нас. Я пыталась сказать…
Генрих зажмурился. Белые искры вертляво проплыли под веками, в памяти прозвучал срывающийся голос супруги: «У нас скоро будет…»
Он застонал сквозь стиснутые зубы.
Та ночь, полная морфиновой жажды, и бедный Томаш с опаленным лицом, и вышитый платок с инициалами…
Да, это случилось в ту ужасную ночь. Но так ли ужасно все получилось?
Сердце смятенно стучало. Но гнева не было — вместо него пришли понимание и… вина?
Генрих открыл глаза. Ревекка молчала, редкие ресницы подрагивали, губы дрожали — вот-вот расплачется.
Она хотела сказать — но Генрих оттолкнул. А потому поделилась счастьем с совершенно незнакомой женщиной, с Маргаритой. И Генрих узнал об отцовстве не от супруги, не от семейного доктора — от сбегающей из страны любовницы, теряя вместе с ней и любовь, и уважение, и семью, и будущего наследника в придачу.
О, милостивый Боже! Есть ли тому оправдание?!
«Есть, и крайне гнусное, — ответил себе Генрих. — Имя ему морфий».
Скрипнув зубами, он отпустил пеньюар, мимолетно отметив неряшливо-темные пятна на некогда белоснежной ткани. Еще немного — прожег бы насквозь. Какой же он сосуд Божий, если ломает все, до чего ни коснется? Включая собственную жизнь?
Ладонь Ревекки скользнула вслед за его рукой, робко касаясь пальцами изуродованного запястья.
— Вы… не рады?
Сердце стыдливо сжалось.
— Ну что вы, — как можно мягче на выдохе произнес он. — Я рад, жена моя. Конечно, рад.
— О! — всхлипнула принцесса и прижалась щекой к его ладоням, заставив Генриха вздрогнуть и сразу вспомнить о Маргарите — кожа еще помнила мягкость ее прикосновений, ее поцелуи, ее соленые слезы. Она была первой, кто принял его без оглядки — с его нечеловеческой силой и человеческими слабостями. Первой — но не единственной. И, поможет Господь, будут другие…
Наследники. Сын или дочь. А, может, оба.
— Берегите себя, — сказал тогда Генрих. — И не забывайте наблюдаться у лейбмедика. Я буду навещать вас, и постараюсь стать хорошим отцом.
— Я знаю! — с жаром подхватила принцесса. — Вы быть самый лучший!
Он наклонился и поцеловал ее в горячий лоб. И, выходя из спальни, вновь почувствовал жжение на веках — наверное, дым добрался и сюда.
Дворцовые часы отбили без четверти десять.
Время текло через голову, и каждую четверть часа Генрих ощущал как булавочное острие, покалывающее висок. Он много думал о сказанном епископом, пока мчался вслед за уходящим поездом. И еще больше — о сказанном Маргаритой, когда возвращался в Ротбург. Он знал, что надо решиться. Он хотел решиться! Но решать надо быстро — до того, как часы пробьют полночь, до того, как морфиновая жажда возобладает в нем превыше всего, и не останется огня — а только пепел, белый-белый, покрывающий все пепел погибших надежд, умершей любви, потерянной жизни.
— Смириться под ударами судьбы иль оказать сопротивленье? — сказал себе Генрих и, лишь на миг остановившись перед очередными дверями, собрался с духом и решительно их распахнул.
В спальне, на долгие дни превращенной в лазарет, по-прежнему остро пахло лекарствами и болезнью. Спертый воздух сдавливал легкие — и кому Генрих велел ежедневно проветривать помещение? Он первым делом тут же распахнул окно! — а цветы в вазонах, распространяя еще более тяжелый аромат, до мигрени дурманили голову.
Присев на край постели, Генрих искоса поглядел на отца. Восковое лицо покоилось среди подушек и казалось теперь маленьким, почти кукольным, и оттого неживым. Но грудь все же поднималась и опускалась, и это давало надежду.
— Отец.
Слово ухнуло в мертвящую тишину, но не возымело эффекта. Больной спал. Его впалые веки едва подрагивали во сне. И Генриху подумалось, что кайзер похож на куколку мотылька — такой же хрупкий и уязвимый, сожми в кулаке — и ничего не останется от повелителя целой империи. Да и ее саму готовы разорвать на куски шакалы и грифы, прикидывающиеся людьми — министры и церковники, анархисты и чужаки. Все, что его императорское величество так тщательно собирал и оберегал, при Генрихе трещало по швам и катилось в пропасть.
Он облизал пересохшие губы и попробовал снова:
— Отец, я знаю, вы хотели бы видеть во мне опору. Хотели бы видеть во мне правителя, офицера. А я так хотел понравиться вам! Быть любимым вами! Но стал разочарованием сперва из-за Божьей отметины, а лучше сказать — кары, потом — из-за образа жизни и глупых ошибок. Я знаю, вы боялись меня, а потому держали подальше от себя и трона, считая, что раз мне на роду уготовано погибнуть — я не пригоден ни для чего другого. Долгие годы я был как гусеница, готовая превратиться в куколку, но никогда бы не ставшая мотыльком. Когда-то я винил вас и матушку, теперь… — Генрих потер зудящие ладони и вынул из-за пазухи свернутую бумагу. — Наверное, и теперь тоже, но, обещаю, я научусь с этим справляться. Вы ведь тоже любили меня… Да, да! Любили по-своему. Я помню, как в детстве мы ездили на охоту в горы. Когда я торопился и заступал за оставленные егерем метки, когда промахивался мимо цели, вы подходили, трепали меня по плечу и говорили: «Имей терпение, Генрих. Не заступай черту». И эти слова я запомнил крепче многих, потому что теперь я стою у самой черты. И нет никого, кто удержал бы от опрометчивого шага. Или, напротив, убедил в правильности подобного шага. Возможно, вы будете ненавидеть меня за это…
Он взял безвольную руку в свою, сжал, и веки кайзера дрогнули и приподнялись. Белесую муть сменило узнавание, и Генриха бросило в пот. Если отец издаст хотя бы звук — он не сможет этого сделать. Если отец пошевелится — Генрих не посмеет этого сделать! И часы пробьют полночь. И жажда затуманит рассудок. И все превратится в пепел, в морфиновые сны, в бесконечное падение навстречу забвению и смерти.
Кайзер не пошевелился и ни издал ни звука. Левый глаз, подернутый поволокой, был, несомненно, невидящ и пуст. Но в правом тлела искра разума, и она была спокойна и тепла. Пожалуй, никогда раньше Генрих не видел в отцовском взгляде столько теплоты. Поддавшись порыву, он поднес его хрупкую ладонь к щеке и коснулся пергаментной кожи губами.
— Я люблю вас, отец, — тихо проговорил он. — И потому попробую снова.
А после вложил в отцовскую руку перо и быстро, размашисто вывел на бумаге подпись.
Сомнение кольнуло висок, дрожью свело пальцы — и прошло. Лишь осталась крохотная клякса на постели.
Оттерев пот, Генрих спрятал бумагу поближе к сердцу и спешно покинул спальню.
Часы били ровно половину одиннадцатого.
Он проходил знакомым путем — через бесконечные салоны и анфилады, мимо портретов предков, и каждый провожал Генриха не осуждающим, но выжидающим взглядом. С их губ сыпались вызолоченные, высеченные на саркофаге фамильного склепа слова: «Прежде, чем исцелять других, исцелись сам!»
И милая, покидающая империю Маргарита, вторила: «Кого ты спасешь, если прежде сам не спасешься?»
Генрих сорвал темнеющую на дверях печать. Гвардейцы было обнажили сабли, но размашистая, подлинная подпись кайзера на документе была ключом, отпирающим любые двери.
Даже императорского кабинета.
Здесь было так же душно и пыльно. Свечи не хотели разгораться, и чадили нещадно, заставляя Генриха щуриться и вновь и вновь утирать глаза. Он приказал привести Андраша, и с некоторым благоговением опустился в квадратное отцовское кресло, сказав не то себе, не то висящему за спиной портрету, где Карл Фридрих был еще черноволос и молод:
— Так надо, папа. Поверь мне в последний раз.
А после ждал с колотящимся сердцем и боялся притронуться к разложенным на столе бумагам, книгам и картам.