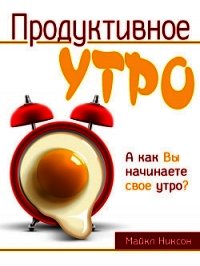Хищное утро (СИ) - Тихая Юля (читаем полную версию книг бесплатно .txt, .fb2) 📗
Знали ли в Службе, что Мигель покажет бумаги Конклаву? По крайней мере, они не могли быть уверены в обратном. Соответственно, принципиально волки не возражали против того, чтобы Конклав эти вопросы видел. Это едва прикрытое обвинение и демонстрация? Или, напротив, волки не понимают оскорбительности ситуации?
Почему они вообще задают эти вопросы — и именно так? Потому что ничего не знают о нашей культуре и пытаются приобрести контекст? Но для этого есть книги и сторонние эксперты. Действительно подозревают колдунов в причастности к преступной группировке двоедушников? Какая ерунда.
А Мигель — почему он не попытался добиться пересмотра списка? В нём достаточно вопросов, связанных напрямую с расследованием, и ничем не угрожающих законопослушным колдунам. Или же попытки были, но нам о них не было сказано?
И почему всё-таки Роден отказывается отвечать? Из-за ответственности перед Родом и колдовской кровью — или… почему-то ещё?
— Ох уж эти Маркелава, — ворчливо сказала Меридит, и я вздрогнула и сбилась с ритма. Полупрозрачная фигура бабушки висела так, что руки и грудь проходили спинку переднего сидения насквозь, а сморщенный нос почти уткнулся в папку с бумагами с гербом Маркелава на обложке. — Эти всё могут вывернуть себе на пользу! Как будто Конклаву мало было истории с Мкубва…
— Старик Мкубва умер своей смертью, — раздражённо возразила Мирчелла. Она сидела на заднем сидении, недовольно скрестив руки на груди. — Ему было сто четыре года, из него разве что песок не сыпался!
— Так-то оно так, — Меридит поджала губы, — но он не был бы последним, если бы не Маркелава.
Мирчелла — это было слышно — закатила глаза:
— Он был последним, потому что у него не было детей.
Мигель Маркелава стал Старшим ненамного раньше меня: меня выбрала на эту роль бабушка, а Мигеля — открытое голосование острова Мкубва, потерявшего последнего представитель Большого Рода. Маркелава всегда были сильным, заметным Родом, Мигелю благоволил и последний Мкубва, так что его избрание тогда никого особенно не удивило.
Рунако Мкубва Тьма не подарила детей. Он многие годы жил, зная, что остаётся последним; он был женат трижды, и ни одна из жён так и не смогла от него понести. Ходили слухи, будто Сендагилея могли бы его вылечить — но не стали; когда Большим Родом стали Маркелава, болтали, будто покойный к тому моменту Старший, дедушка Лиры, шантажировал целителей, угрожая раскрыть какие-то подробности об участии Сантоса Сендагилея в смерти Последнего Короля. Но это были, конечно, только слухи, и все они никак не были связаны с делом Родена Маркелава и его молчанием.
А ведь ещё — убийства. Убиты два молодых колдуна из малых северных Родов, причина смерти — обильные внутренние кровотечения, вызванные ударами тяжёлым тупым предметом по корпусу. Это дело для колдовской полиции; но Волчья Служба забрала его себе — потому что при покойниках были найдены крысиные деньги.
Лира говорила, будто Роден был знаком с Асджером Сковандом: они пересекались в университете. Имя Матеуша Вржезе ни о чём ей не говорило. Между погибшими не было ни дружбы, ни общих дел, ни конфликтов — они просто были друг другу представлены, как я представлена примерно половине населения островов.
Связаны ли их смерти с той же преступной группировкой и Роденом? Может быть; судя по некоторым оговоркам Ставы, Волчья Служба полагает, что связаны. Убийцы избавляются от тех, кто что-то знает, опасаясь разоблачения? Но что такого мог бы знать Матеуш Вржезе, балбес и повеса?
Асджер Скованд начал являться своим родственникам и мог бы рассказать, что с ним случилось. Но Скованды отказались передать следствию, что им сказал покойник, найдя этому самую дурацкую отговорку из возможных. Род трясли и из-за крысиных денег, и из-за связей с запретной магией, но это пока, похоже, ни к чему не привело.
Семейство Вржезе и вовсе отказалось общаться со следствием. На вопросы отвечал вместо них адвокат; отвечал нескладно и неохотно, а больше — трепал Службе нервы.
Что это за странные тайны, из-за которых умирают люди, а родственники погибших предпочитают молчать, даже когда им это совершенно не выгодно? Чем можно взять за горло мать убитого — и заставить её сказать, будто обсуждать слова усопшего «неприлично»? Что такого знают о колдунах преступники и предположительные хвосты Крысиного Короля, которым ничего не стоит обмануть даже удивительный лисий нюх?
Кто толкает Службу на странные оскорбительные вопросы, от которых международные отношения становятся только напряжённее, а отзвуки старой войны надвигаются из тени?
И при чём здесь, в конце концов, хищное утро?
Оглушительно взвизгнул клаксон. Я, опомнившись, взялась за рычаг и вывела машину на перекрёсток. Регулировщик проводил меня усталым взглядом, а дедушка Бернард, посмеиваясь в усы, пошутил что-то неловкое про девиц и автомобили.
— Нужно обдумать выбор цветов для сада на этот сезон, — важно напомнила Меридит. — Пенни! Особняк должен выглядеть пристойно и не порочить Род угрюмым, неухоженным видом! Ты ведь помнишь, что скоро весна?
Я кивнула. А потом, пролетев налегке набережную, приоткрыла окно — и в салон хлынули городские звуки: трескучее переругивание воробьёв, робкая пока февральская капель, бьющая в залитую жёлтым солнцем жестяную крышу, и влажное, глубокое дыхание замёрзшей реки.
Скоро весна, повторила я про себя, не понимая пока, что к этому чувствую. Скоро весна.
xliii
Был первый день марта, когда мастер закончил ремонтировать рояль.
Он приезжал к нам два или три раза в неделю, пыхтел что-то неразборчивое в бороду и закапывался в инструмент. Он убедил меня перекатить рояль в башенную гостиную на втором этаже, подальше от влажного воздуха оранжерей, и там ещё почти неделю терпко пахло лаком; и вот — закончил.
Рояль стоял, обнятый жёлтым светом закатного солнца, и блестел клавишами — новые чуть светлее старых. Педали начищены до густого медного цвета, в буквах над нотной подставкой — позолота, а струны под крылом, казалось, гудели недопетым, недосказанным, недодуманным.
Меня учили на этом рояле: когда стало ясно, что запретить мне петь не получится, бабушка наняла склочного, неприятного брюзгу-маэстро, который называл меня «запущенной», требовал прикосновения, «как к любимой женщине», много кричал и пару раз бил крышкой по пальцам. Наверное, я должна была возненавидеть музыку. Но я ненавидела только учителя, да и того не слишком долго. Мы расстались, так и не сыграв фугу ля-минор; уже позже я бегала тайком в фортепианные классы городского музучилища, где романтичная студентка-джазистка учила деток играть вальс собачек, а меня — аккомпанементу.
В музыке для меня всегда что-то было, — что-то другое, незнакомое и оттого почти ненастоящее. Я слышала её тем же противоестественным чувством, каким в вибрациях Вселенной можно расслышать слова изначального языка; я слышала её в биении сердца, в пульсации крови, в дыхании, в шелесте ресниц. Надмирная, невесомая, невероятная мелодия, в которой вся моя жизнь — короткая фальшивая нота; и, как бы мне ни хотелось, я не умею выразить её хорошо.
Я отодвинула банкетку, села, выпростовав кольчугу тем же жестом, каким концертирующий пианист перебрасывает через сидение полы фрака. Тронула клавиши, нажала мягкую педаль и долго слушала, как бархатные ноты тонут в сумраке комнаты.
Какое-то время я бездумно наигрывала старые романсы, привыкая заново к тёплому звучанию рояля. Потом — тихонько пела: то воздушным, полётным звуком, то плотным и грудным, почти рыдающим голосом. Сорваться на почти-крик, позволить высокой ноте истончиться — и утонуть в журчащей мелодии.
Я в тишине, где воздух стыл, где мертвенно,
Живого нет и пошлого,
И отголоски прошлого — звучат искусственно.
Пусть загремит спасительно — ударь меня, гроза!
Пусть крик, пусть плач, пусть вой, пусть рёв,
Я эхом повторяюсь вновь —