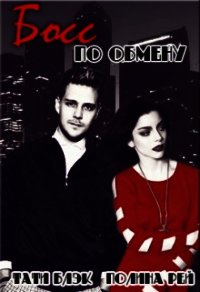Агенство БАМС (СИ) - Блэк Тати (библиотека книг TXT) 📗
— Я прибыл сюда исключительно оттого, что меж нами было многое не договорено. Теперь же понимаю, что сказать имею вам, Настасья Павловна, не так уж и много. Сие дело, что столкнуло нас с вами, завершено, равно как и завершены наши отношения. И в любом другом случае я бы не прибыл нынче к вам и не потревожил вашего покоя и впредь, кабы не считал, что вы могли счесть себя обязанной мне.
Он сделал паузу, понимая, что ему отчаянно не хватает воздуха, чтобы произнесть свою тираду единым порывом. А может, виною тому было чувство, будто кто-то сдавил ему тисками грудь, отчего сделать следующий вдох было затруднительно.
— Под обязательствами я имею ввиду мое вам предложение руки и сердца, на которое вы не ответили. Прошу прощения, что был столь несдержан, что выказал свои к вам чувства чересчур поспешно, тем самым поставив вас в неловкое положение. Отныне же прошу считать, что все обязательства, которые могла наложить на вас моя несдержанность, забраны мною вместе с предложением. И на сим я откланяюсь с вашего на то позволения.
Кивнув Оболенской, Шульц все же перевел взгляд на ее лицо и понял, отчего правильным было не смотреть на нее вовсе. Весь ее свежий облик, коим дышало, казалось, все в гостиной, включая самого несчастного лейб-квора, пленял, сбивал с толку и творил с Петром Ивановичем какое-то необъяснимое колдовство. Оттого и бежать ему нужно было тотчас — и от глаз ее, и от беззащитности, отражающейся на ясном челе. Вот только вместо этого он стоял, ожидая, ответит она ему хоть что-то или нет. И чувствовал себя еще большим болваном, чем то было прежде.
Оболенская слушала тираду Петра Ивановича и ощущала, что происходящего для нее снова становится слишком — слишком много ее боли, слишком много его равнодушия, слишком много слов, что ранят острее, чем пики. И как ни хотелось бы ей тотчас же встать и уйти, Настасья говорила себе, что господин лейб-квор имеет полное право считать себя в данной ситуации оскорбленным и преданным. Но разве не сказала она ему, что не передавала, несмотря ни на что, никаких сведений? Стало быть, не поверил этим словам Шульц и, не выясняя ничего более, готов был забрать назад все — свое предложение, свои признания, свои чувства. Чувства, что высказал чересчур поспешно. Что имел он в виду, говоря ей теперь это? Неужто то, что ошибся в том, что испытывал к ней? Неужто то, что понял вдруг, что никакой любви в его сердце не было вовсе? А ведь так оно, должно быть, и было, коли вот так, без ее участия, вырешил он, что отношения их отныне закончены. Вот только сама она не готова была отступиться так просто, не предприняв последней попытки своей что-то исправить.
И ежели не поймет он ее и не откликнется — то никакие унижения, на кои она была бы даже готова, не помогут вернуть то, чего, значится, и не было на самом деле.
— Стало быть, вынесли приговор без суда и следствия, Петр Иванович, — медленно проговорила Оболенская, не скрывая горечи в голосе, и также, в свою очередь, на Шульца не глядя, ибо равнодушный вид его способен был напрочь лишить ее желания говорить что-либо. — А я много, почти беспрестанно, думала, что скажу вам в свою защиту, ежели удостоите вы меня своего внимания. И я могла бы теперь сказать вам о том, что должно быть вам, как человеку чести, близко и понятно — что у меня, как и у вас, имелся собственный долг, согласно которому я не имела права вам раскрыться. Да, я могла бы сказать вам это, господин Шульц, но не стану, потому как в данном случае это будет абсолютной неправдою. Правда же состоит в том, что едва повстречав вас в тот вечер, я совершенно забыла обо всем. О возложенной на меня миссии, о беспристрастности, что должна была блюсти… Но вместе с тем, не отрекшись от задачи своей, я считала себя не вправе открыться вам и принять ваше предложение. Хотя все равно сделала бы это, но все так нежданно завертелось, что правду вы услышали в итоге не из моих уст. — Настасья Павловна перевела дух и сглотнула вставший в горле ком, что душил ее, лишая последних сил. Все же подняв глаза, полные мольбы, на Шульца, она поспешно добавила, боясь, что он ее не дослушает:
— Я скажу вам так, Петр Иванович… не судите меня по тому, что я должна была, но в итоге не сделала. Судите по тому, чего я была не должна, но все же сделала. Потому что в отличие от вас, столь твердо преданного короне, вовсе не уверена, что стала бы рисковать собственной жизнью одного лишь Отечества ради. Вы и непрошеные чувства к вам — единственная причина всех моих поступков. Но доказать сие мне вам, увы, нечем, и ежели вы не пожелаете мне поверить — сделать что-то с этим я уже бессильна. Но по крайней мере, подумайте над тем, что я вам сказала. Ежели, конечно, признания ваши были искренни. — Договорив, Оболенская не стала дожидаться момента, когда снова увидит, как уходит от нее Шульц — на этот раз навсегда — и, степенно поднявшись, согласно глупому этикету, привитому ей намертво, направилась к выходу, ощущая, что еще немного — и просто бросится господину лейб-квору в ноги, чтобы удержать рядом с собою, а после будет ненавидеть себя за это напрасное унижение до конца жизни.
— Прошу меня простить, — выдавила Оболенская и, по-прежнему прямо держа спину, вышла из гостиной, а когда Шульц уже не мог ее видеть — бросилась опрометью наверх. Туда, где можно было позволить себе простую женскую слабость — слезы, коими горю, конечно же, не помочь, но и совладать с ними уже попросту не было сил.
Сколько времени миновало с того самого дня, когда Петр Иванович видел Настасью Павловну последний раз, лейб-квор не знал. Дни он проводил исключительно дома, лишь изредка выходя в сад в те моменты, когда ему особливо казалось, что нет больше сил на то, чтобы и долее чувствовать, как сжимается что-то огромное и неотвратимое вокруг его груди. Словно бы в ответ на его желание побыть в одиночестве, которое, меж тем, приносило ему лишь страдания, Петр Иванович получил спокойствие и тишину, порой кажущиеся ему могильными. Неотступные, тяжелые, почти что смертельные мысли, и вишневая наливка — вот компаньоны лейб-квора, что были рядом все то время, когда Петр Иванович бесцельно бродил из угла в угол в своем доме, не зная, есть ли на белом свете хоть что-то, что способно будет его заинтересовать.
И куда бы он ни направился, чем бы ни занимался — в голове, словно выжженный огнем, неизменно появлялся образ Оболенской. Шульц закрывал глаза ложась спать и видел во сне ее облик. Он смотрел на улицу, где по-летнему теплый дождь барабанил по крышам домов, и тоже видел образ Оболенской, что преследовал его теперь повсеместно.
О, как бы хотелось ему верить собственному сердцу, а не разуму, отравленному обидой! Как желалось ему поверить Настасье Павловне, что чувства, в которых она призналась Петру Ивановичу в их последнюю встречу — правдивы настолько, что он может отдаться им всецело! И чем более проходило дней, тем больше сомнений поселялось в голове Шульца. Что если он ошибся? Ошибся настолько, что исправить нынче уже ничего нельзя. Что если он предал то единственно дорогое, чем стоило жить и дышать? Ибо не стоят ничего обиды, если они приносят человеку лишь несчастье. А ежели они делают несчастным не только его, возможно, стоит еще раз остановиться и обдумать все более трезво.
Прошло несколько мучительно долгих дней, слившихся в одну сплошную безликую массу, прежде чем Настасья Павловна сумела наконец убедить себя в том, что Петр Иванович уже не придет. Что не услышать ей боле ни разу его насмешливого «немилая моя» и более ласкового «душа моя». Да и голос Шульцев отныне звучал только в ее воспоминаниях, причиняя боль настолько немыслимую, что Оболенская удивлялась про себя тому, что вообще еще способна дышать. Вот только для чего — не знала.
В тот день она впервые с момента расставания своего с господином лейб-квором вышла за пределы спальни и спустилась в сад. Там, среди аккуратных клумб, давно приведенных в порядок после памятного забега графа Ковалевского, спасавшегося от Моцарта, цвели, посаженные строгими рядами, яблони. А вернее, как обнаружила теперь Настасья Павловна — отцветали. Белые их лепестки, кружась в прощальном танце, бесшумно падали на землю, отживая свой короткий век. И также рассеялись, как белоснежный яблоневый туман, и мечтания Настасьи Павловны о счастье, что обошло ее стороною. И подобно цветам этим, отмирала понемногу ее душа, становясь все опустошеннее по мере того, как все призрачнее и слабее становилась надежда, что все же одумается Петр Иванович, что найдет в себе силы поверить словам ее. Но теперь, когда глядела Настасья Павловна на никому ненужные белые лепестки под своими ногами, понимала ясно: ничего уже не изменится. Ибо если бы желал господин лейб-квор к ней вернуться, ему бы не потребовалось на это столь долгое время.