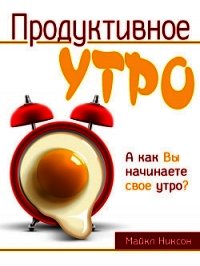Хищное утро (СИ) - Тихая Юля (читаем полную версию книг бесплатно .txt, .fb2) 📗
Вообще говоря, я всегда прекрасно справлялась сама, — как это и должно быть. Ты сам себе, как любила повторять раньше мёртвая прабабушка Урсула, ответственный взрослый: хочешь плакать и ныть — плачь и ной, потом сама себя пожалей и вперёд, исправлять ошибки и строить прекрасное будущее. Керенберга учила нас тому же самому, и Ливи от её наук буянила, вела себя непристойно и выскочила замуж за первого встречного, кто хорошо улыбнулся.
С другой стороны, если бы мы с Ливи устроили конкурс на самый счастливый брак — скажем прямо, совсем не факт, что я бы его выиграла.
Эта мысль была почему-то кислой, и я поторопилась запить её грогом. Может быть, в нём и были сироп и ликёр, но на вкус казалось, что малиновое варенье; бокал едва заметно подрагивал в моей руке, и на матовой поверхности напитка бликовал свет ламп.
Кто знает, вдруг это и неплохо, что Ёши устроил эту сцену. Хамить бабушке, конечно, действительно не стоило, как и в целом разговаривать за столом в таком тоне; с другой стороны, это ведь, получается, он… вступился за меня? Он мой муж, в конце концов. В этом ведь нет ничего такого уж ужасного?
Ёши смотрел на меня мягко и немного устало, как на маленькую. И я, конечно, вздёрнула подбородок и спросила с вызовом:
— Вам нравятся слабые женщины?
— Интересная интерпретация, — он явно развеселился.
— Ваше мнимое рыцарство неуместно, — отчеканила я и немедленно закашлялась в грог. — Это дешёвые манипуляции, они очевидны.
Ёши вздохнул.
— Как тебе грог?
— Малиновый, — растерянно сказала я.
И позорно шмыгнула носом.
Я не умею плакать, — хотя, конечно, это совсем не тот навык, который приобретается путём длительного изучения теоретической базы и выполнения развивающих упражнений. Я не умею плакать, и это совершенно прекрасное качество, которое помогает держать лицо, даже когда это делается очень сложным. Насморк стремился превратить моё лицо в одутловатое кладбище соплей, а глаза чуть слезились от алкоголя, и всё это никто, совершенно никто не должен был видеть.
Надо было взять себя в руки, встать и уйти к себе, пить микстуры и лечиться. Но двигаться не хотелось, глубокое кресло обхватило меня и утопило в себе, а Ёши вдруг сказал:
— Хочешь, я тебя нарисую?
Он уже рисовал меня однажды, без спросу — но это было другое: я не присутствовала.
Ёши безжалостно сорвал с мольберта лист с цветными кляксами, скомкал его и бросил в корзину; потом долго перебирал бумагу — она была разложена по папкам, и он то пробегал пальцами по листу, то бросал на меня взгляд. Наконец, выбрал плотный серовато-зелёный картон, пришпилил его к мольберту, поднял основу до вертикального положения, натянул тонкие перчатки и потянулся за пастелью.
Я видела раньше только детскую пастель, жирную и яркую, которой удобно рисовать зубастые солнышки и жизнерадостную изумрудную траву, с силой вдавливая мелок в бумагу до густого сплошного следа. Ёши рисовал чем-то другим, похожим только внешне: в ящике были переложены пергаментом разноцветные сухие стержни квадратного сечения. На бумаге они оставляли мягкие бархатистые штрихи, полупрозрачные и матовые; на пол пастель осыпалась лёгкой-лёгкой крошкой.
В живописи я мало что понимала, поэтому смотреть на сеть накладывающихся друг на друга цветных росчерков было не очень увлекательно. Куда интереснее был сам Ёши: он сидел перед мольбертом почти неподвижно, с непроницаемым лицом, а руки двигались отточенными короткими движениями.
А ещё он смотрел. По-другому, не так, как обычно. Казалось, что он видит какие-то тончайшие детали, из тех, какие я сама в себе никогда не замечала. В этом было что-то странное, неловкое и вместе с тем интимное, и этот странный взгляд почему-то волновал меня даже больше, чем наша с ним пустая и пронзительно-холодная брачная ночь.
Я задремала, наверное, потому что прошло как будто не так и много времени, но грог в моих руках совершенно остыл. Ёши отстранился от мольберта, посмотрел на него будто бы с сомнением, а потом ловко подцепил ногтём большого пальца все кнопки по очереди и протянул мне лист.
У него был странный взгляд, как будто выжидательный и напряжённый. Я вдруг вспомнила тот десяток снов, в которых прекрасная лунная разрывала на тысячу мелких клочков его рисунки, пока он признавался ей в любви; мои пальцы, кажется, дрогнули.
Не знаю, отчего Сонали была так возмущена схожестью. Пастельная я была совершенно не похожа на меня, — и, пожалуй, отличалась от реальности в лучшую сторону. Она сидела в глубоком кресле, обтянутом гобеленной тканью с едва различимыми силуэтами мрачных скал; у неё был в руках кубок с сияющей колдовской водой, а за спиной — длинный посох с навершием из веера чёрных ножей. У неё не тёк нос и не слезились глаза, её фигура была наполнена достоинством и силой, на бритой голове лежал крупный венок из ярких цветов, — и вместе с тем она почему-то звучала в миноре.
Нарисованные глаза смотрели прямо на меня, ясно и твёрдо; губы искривлены, челюсть сжата.
— Спасибо, — тихо сказала я, не сумев придумать других слов.
И протянула ему рисунок обратно.
Он отмахнулся:
— Оставь себе.
Я с сомнением посмотрела на лист, а потом кивнула.
xxxi
— Бишиг! Хоть ты мне объясни! Ну мы же друзья?
Это было несколько дней спустя, и моё горло почти пришло в норму, но я всё равно стоялась побольше молчать, — поэтому в ответ на это весьма сомнительное утверждение только нахмурилась.
Става, одетая в ярко-фиолетовый вельветовый сарафан поверх жёлтой рубашки в цветочек, оседлала Сукиного Сына, улеглась грудью на широкую каменную шею и лениво мяла руками ухо. Сверхтяжёлая штурмовая горгулья стояла неподвижно, но в её рогатой морде мне виделось недоумение.
Конечно же, мы со Ставой не были подругами, хотя именно Става единственная из всех знакомых догадалась прислать мне на дом фруктов. Из дорогущих на материке цитрусов в корзине был один только кривоватый лимон с зелёным боком, который я без малейшей жалости пожертвовала Ёши для его алкогольных экзерсисов, зато крупная тепличная клубника и жёсткие сладкие груши оказались действительно приятным подарком.
Тем не менее, общение со Ставой было всё же скорее рабочим, и приехала она обсуждать разные серьёзные вещи, вроде убийств и заговоров.
— Эти ваши колдовские дела, — пожаловалась Става, возясь на горгульей спине, — такие странные!
— В чём именно странность?
Става сморщила нос, но всё-таки принялась рассказывать.
В наличии имелось два трупа молодых колдунов, погибших от многочисленных разрывов внутренних органов и перитонита, — и отсутствие запахов посторонних на месте гибели. При обоих телах обнаружили крысиные деньги, и Волчья Служба запросила перевод дела из полиции; там планировали, конечно, искать между погибшими какие-то связи, но столкнулись с неожиданными для них сложностями.
Ставу они все отчего-то возмущали, как будто никогда раньше она не сталкивалась ни с культурным разнообразием, ни с неразговорчивыми свидетелями.
Связь этих двух смертей, говорила Става, отчаянно жестикулируя, — совершенно очевидна! Ну не бывает же, действительно, таких совпадений?! Почему же тогда все ваши несут какую-то ерунду вместо внятных показаний?..
С чего и когда двоедушница возомнила меня коллегой, с которой можно обсуждать такие вещи, я не поняла: вообще-то я только создавала для полиции горгулий по договору государственной закупки, и подписанное мной соглашение о конфиденциальности было хоть и довольно обширным, но всё же не настолько. Тем не менее, Става явно намеревалась выбалтывать мне служебные секреты и страшные тайны мохнатых.
— Ну вот смотри, — кипятилась она, размахивая руками вокруг горгульей головы, — есть Асджер Скованд. Залез ночью в охраняемый горгульями особняк, получил множество ударов тяжёлым тупым предметом по корпусу, умер. Есть Матеуш Вржезе, который пришёл на вечеринку, на которую его не приглашали, получил множество ударов тяжёлым тупым предметом по корпусу и умер. В обоих случаях била, предположительно, женщина. Тебе не кажется разве, что это, ну… одна и та же женщина?!