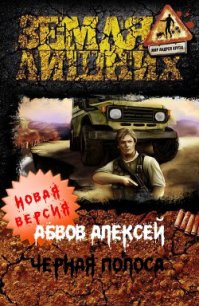Из жизни единорогов - Патрик Рейнеке (читать книги полные .TXT) 📗
— И это говорит человек, который вчера вечером вместо того, чтобы переводить, читал Джойса? Добро бы еще в оригинале.
Тут я уже просто надуваюсь, перекладываю вилку в правую руку и склонившись над тарелкой молча и мрачно жую. Ничего себе! Джойс ему мой, видите ли, поперек горла!
— Сенча, солнышко… не надо переедать, пожалуйста. Я понимаю, если бы у тебя кубышка с деньгами была запрятана для всяких там эндокринологов-гастроэнтерологов… Денег лучше с собой лишних возьми, на работе сходишь еще раз поешь.
Этот аргумент мне приходится признать справедливым. Я и сам знаю, что мне нельзя много съедать за один раз, а надо есть чаще и мелкими порциями. Но в момент раздачи пищи всегда очень сложно устоять. Да и когда у меня были лишние деньги на питание на работе?… И тем не менее, несмотря на мое согласие, он еще долго не допускает меня к раскладыванию еды по тарелкам, даже если готовлю я. Джойсом, впрочем, больше не попрекает.
* * *
Собираясь в театр, переодеваемся каждый в своем углу. Застегнув рубашку, я оборачиваюсь, и вижу брошенный на его кровати халат. Штерн, вставляя запонки, смотрит на меня со скептической улыбкой.
— Ну, подойди потрогай, — нехотя произносит он.
— А можно?
— Ну я ж вижу, что тебе неймется… Угораздило жить с кинестетиком!
Я хватаю руками огромные кисти, которые тут же упруго сжимаются и выскальзывают из ладоней, как живые, пропускаю между пальцами шнур, глажу ткань.
— Откуда ты знаешь? — спрашиваю я смущенным шепотом.
— А то я не в курсе, что ты вечно мои ракушки и камушки ощупываешь! Как дитя малое… Спасибо, хоть в рот не тянешь.
— Но я же на место их всегда ставлю.
— Еще бы не на место! Рисунок один вчера вверх ногами кто поставил?
— Но там же все равно не понятно, где верх, а где низ…
Он кидается к полке, сует мне под нос одну из своих крошечных картинок:
— Как тут может быть что-то непонятно?!… Вот для таких как ты, которые думают, что изображение непременно должно быт предметным… Для таких есть дата на обороте — в правом нижнем углу. Так что если берешь что-то… О-о-о, нет!.. Не могу я этого больше видеть!
Он отнимает у меня халат — оказывается, я бессознательно вожу кистью по подбородку, покусывая кончики свитых ниток. Глядя, как он запихивает халат в шкаф, интересуюсь, неужели он так сильно опасается за его невинность.
— Если бы только за его! — огрызается он.
Нет, я, конечно, уже готов шнуровать ему ботинки и кофе в постель приносить (что, правда, является грубым нарушением правил внутреннего распорядка), но не настолько же я маньяк, чтобы не уважать чужих принципов…
* * *
Работает он, действительно, много. Я бы никогда так не смог. При этом никаких поблажек: несколько перерывов на гимнастические упражнения с растяжками (о, глаза б мои на эту пластику не смотрели!), регулярное проветривание комнаты во время перерывов на чай, вечерняя прогулка после библиотеки и музыка, музыка, музыка…. Раз в неделю — выход в театр или филармонию, иногда в кино. Опять же раз или два раза в неделю — просмотр какого-нибудь взятого в прокат фильма. Причем в половине случаев по результатам просмотра пишется небольшая рецензия или колонка, которую непременно где-нибудь публикуют в столичных изданиях под одним из его многочисленных псевдонимов, по большей части, впрочем, довольно прозрачных. Сразу видно, что человек уже много лет существует в одном и том же ритме, и мне ничего не остается, как включиться в этот ритм, раз уж я теперь от него экономически завишу.
С переводом у меня пока получается не особо. Мне с самого начала запрещено задавать вопросы по ходу, поэтому все движется крайне медленно. Когда я перевожу пару страниц, Штерн подходит ко мне, заглядывает на пару минут в источник, потом смотрит на то, что получилось у меня:
— Ага… А теперь, посмотрим, как это должно быть по-русски… — и почти сходу наговаривает гладкий текст с правильными предложениями, легкими внятными конструкциями и верными определениями.
Я в ужасе хватаюсь за голову.
— Если что-то выходит недостаточно хорошо — это не повод для того, чтобы расстраиваться. Это просто еще одна возможность что-то в этом мире исправить. Вперед, мой верный оруженосец!..
В библиотеке мы видимся реже, чем раньше. Отчасти потому что все необходимые задания, связанные с ГАКом, а иногда даже и с систематикой, он дает мне утром. В результате я сам начинаю заполнять за него часть требований, что существенно облегчает ему общение с «серпентарием» и избавляет от обращений к моим непосредственным коллегам. Одновременно со списками литературы я получаю от него список для покупки продуктов и необходимых предметов. Иногда, если я ухожу к открытию, а сам он приходит в библиотеку позже и заходит в зал в мое отсутствие, я нахожу эти его перечни у себя на столе под клавиатурой. Иногда в виде записок: «В коридоре умерла лампочка. 60 Вт» или «Не нашел в доме молока». Деньги выдаются мне с вечера с таким постоянством, что я уже сбился со счета и уверен только в одном — за месяц я проедаю гораздо больше, чем зарабатываю. Единственно, что меня утешает, это то, что своими усилиями в библиотеке и по хозяйству хотя бы время я ему существенно экономлю.
Он никогда не показывает мне свои тексты, не говоря уж о переводах. Но все время таскает меня с собой на концерты и постановки — во многом для того, чтобы потом расспросить о моем впечатлении. С легкостью делится своим мнением, обращает мое внимание на какие-то важные, но неприметные с первого взгляда детали, но никогда не спорит. С ним очень интересно ходить на выставки: практически про любую вещь он может сходу рассказать, чем она хороша, что именно в ней красиво и почему к ней надо относиться как к художественной ценности. Причем это касается вообще всего, что только может быть выставлено в музее — даже тех произведений, на которые лично я бы и внимания обращать не стал, а тем более признавать за ними право назваться искусством.
В отношении кино он, правда, куда более избирателен. Может прийти домой с пятью взятыми на прокат дисками, и два из них отбраковать сразу после пятой минуты просмотра. У него какое-то потрясающее чутье на стоящие вещи: по каким приметам он выбирает эти фильмы в прокате, для меня всегда остается загадкой. Но факт остается фактом, если он говорит, что фильм хорошо сделан, это так и есть, если же заявляет, что ничего интересного, так в результате и оказывается.
Соответственно в том, что касается интеллектуального общения, у меня наблюдается даже некоторый перебор. Хотя временами я себя ощущаю как какая-то Элиза Дулиттл, которую постепенно приобщают к кругу интересов потомственной интеллигенции. Ассоциация эта тем более часто приходит мне на ум, что периодически меня принимаются учить правильно не только писать, но и говорить по-русски.
— Ах, ну да, это же я еврей… Это же мне положено русский язык знать, — возмущается каждый раз он, когда слышит от меня какое-нибудь привычное мне ударение или замечает, что я не ставлю запятых.
— Конечно! — возмущаюсь в ответ я. — Носитель языка — как хочу, так и ношу. Не всем же по Розенталю жить…
— Русский человек! Во всей красе! — всплескивает руками он.
— Да, — ворчу я. — Представитель титульной нации…
— К нации он еще примазывается! С угро-финской фамилией…
Дальше выясняется, что я понятия не имею, что значит моя фамилия, с трудом могу вспомнить, откуда происходили мои неграмотные предки (что в результате всех этих перемещений в советское время и в правду восстановить не так просто), и еще я не знаю географии. Но вроде все сходится, на каком-то из мордовских языков моя фамилия обозначает какую-то утку.
— Я ж говорю, русский человек! — ворчит Штерн.
Институт благородных девиц какой-то!… Следует, впрочем, отметить, что несмотря на мое внешнее сопротивление, ему весьма удается мое воспитание. Я начинаю внимательнее относиться к словам, меня меньше приходится править в письменных текстах, я начинаю ценить и любить те явления культуры, о существовании которых я раньше даже не и подозревал. Знать бы только, с какой целью это делается? Хотя, может, ему просто скучно в этой его по-холостяцки налаженной жизни, а я своим присутствием просто не даю ему окончательно замкнуться в его добровольном отшельничестве.