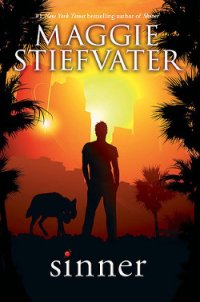Личное отношение (СИ) - Рауэр Регина (читать книги без txt) 📗
Кажется в слишком сером и холодном дне чужеродной и яркой.
Ходячим детским садом.
И моей головной болью на пару со своим закадычным другом Элем, поскольку ни одно занятие просидеть спокойно они не могут, занимаются ерундой, дурачатся, заставляя скрипеть зубами от злости и одновременно прятать улыбку.
Вспоминать себя и Стиву.
— Эль, Козлов ждать не будет, — задорный голос Дарьи Владимировны, успевшей распрощаться с мажором, разносится по всему двору.
Собирает внимание.
Она ж упирается руками в спину кривляющегося и сопротивляющегося Эльвина, пыхтит и к крыльцу его буксирует:
— Он опять заставит нас изображать ворсинки за опоздание. Присели — встали. Присели — всасывает, встали — не всасывает. Не хочу ворсинкой!
Юрия Павловича Козлова Штерн копирует театрально, пародирует его монотонный замогильный голос, которым он ещё нам зачитывал лекции по гистологии.
И засмеяться хочется.
Только медовые глаза уже натыкаются своим взглядом на меня. Теряется на миг Дарья Владимировна, но моргает и снова опаляет окружающих улыбкой:
— Добрый день, Кирилл Александрович!
Эльвин ей вторит.
И я им киваю, отвечаю, а тяжёлые двери хлопают, выпускают Кулича, что при виде моей парочки недобро прищуривается, сверкают холодом рыбьи глаза.
— Какие знакомые всё лица, — он улыбается ядовито.
И развесёлый дуэт притихает.
Перестаёт кривляться.
Вспоминают явно свои воззвания в трупной, где Кулич в это время с обычным для него апломбом и пафосом вещал первому курсу всю важность анатомии и выбранной ими профессии заодно, а потому дружное «Ку-ку», заглянувших в комнату, Штерн и Бахитова в его речь не вписалось, уменьшило торжественность момента и Кулича почувствовать себя униженным и оскорбленным до глубины души заставило.
— Здравствуйте, Руслан Матвеевич, — парочка здоровается вялым хором.
Пытается проскользнуть мимо, но Кулич их тормозит и обернуться заставляет:
— Вадиму Вадимовичу объяснительную уже написали?
— Мы… — они переглядываются.
Становятся враз похожими на растерянных детей, и, глядя на самодовольство, что расцветает в улыбке Кулича, во мне закипает злость.
Ибо беззаботная парочка — моя головная боль и мои студенты. Издеваться и измываться над ними имею право только я. И отправить писать объяснительные за придурковатое поведение во время моей пары могу их тоже только я.
— Руслан Матвеевич, — я окликаю его негромко, откидываю щелчком пальцев окурок и сам к ним направляюсь, — мы же уже договорились, что со своими студентами я разберусь сам.
— Договорились, но что-то не заметно, чтобы вы с ними разобрались, Кирилл Александрович, — Кулич выговаривает визгливым громким тоном.
И на нас оглядываются.
Смотрят.
— У кого-то гистология должна начаться, — я перевожу взгляд на затихших студентов, и намёк они понимают сразу.
Исчезают.
Испаряются, пока Кулич прожигает ненавистью меня.
— Они вели себя непозволительным образом, — он цедит сквозь зубы, кривит побелевшие от гнева губы.
— И они уже ответили за это, — тихое бешенство я игнорирую, стряхиваю его руку с рукава моего пальто. — Мне пора идти. Всего хорошего, Руслан Матвеевич.
Вот только хорошего не получается.
Кулич догоняет меня на лестнице, останавливается в подножии и, задирая голову, выговаривает, глумливо и скабрезно:
— Создается ощущение, Кирилл Александрович, что у вас к некоторым студентам — или лучше сказать студенткам? — личное отношение…
Жирный намек.
Пошлый.
И можно только порадоваться, что кроме нас никого нет. Никто не слышит и не видит, как я спускаюсь, останавливаюсь в шаге от Руслана Матвеевича и руки в карманы ещё не снятого пальто, дабы не съездить по ухмыляющейся роже, прячу.
— У меня ко всем своим студентам личное отношение, Руслан Матвеевич. И вам в эти отношения лучше не соваться.
— Угрожаете?
— Предупреждаю, — я улыбаюсь холодно. — Моих студентов трогать нельзя.
Им и так не повезло с преподавателем.
Три
Декабрь
Мир белеет.
И колкий ветер вальсирует снежинки.
Рисуется сказочный узор на стекле. Исчезает вечерний город с миллиардами огней и сотней разноцветных гирлянд на деревьях парка, пропадает из видимости.
А я создаю видимость раскаянья:
— Рит, так получилось…
— У тебя всегда так получается, Лавров! — Рита-Маргарита злится.
Бушует справедливо.
Поскольку этот вечер мы планировали провести вместе, и столик в ресторане уже был заказан, но назначенная на шесть вечера отработка для самых хвостатых и бездарных затянулась до полдевятого вечера.
Столик же был зарезервирован на девять.
И мысль, что телефон ещё не разрывается от звонков Риты, которая ждёт дома, постигла меня только на середине дороги.
Заставила выругаться.
Осознать, что телефон остался на столе.
И на кафедру, разворачиваясь на ближайшем светофоре, пришлось возвращаться. Торопиться, перескакивать через ступени и по коридору до кабинета бежать, дабы медленно потухающий экран вибрирующего телефона увидеть.
Взглянуть на тридцать пропущенных.
Усмехнуться криво и тихо звякнувшую связку ключей на стол положить, сесть рядом с ней. Подумать, что всё, баста.
Последняя капля.
И можно звонить Нике, что на Новый год я приеду к ним один, посвящу всё внимание моим племянникам, подарки которым ещё на той неделе мы покупали вместе с Ритой, спорили из-за куклы для Яны и радиоуправляемый вертолет для Яна я отвоевывал.
Но сначала, подойдя к замерзшему окну, я позвонил Рите…
— Я больше не могу, Кирилл, — она вздыхает прерывисто.
Замолкает.
И последней скотиной я чувствую себя сам, даже без её слов и заслуженных упрёков. Без воспоминаний сколько раз прежде отменялся ресторан, заполнялся рабочими звонками вечер и менялись планы на выходные.
— Прости.
— Я оставлю ключи твоей соседке, — Рита говорит тихо.
Отключается.
И домой можно больше не спешить.
Меня теперь там ждёт только Алла Ильинична с ключами и тысячей обеспокоенных вопросов, поэтому уходить я не тороплюсь, рассматриваю оконные узоры и узкую полосу, сквозь которую виднеются светящиеся многоэтажки и край парка.
Слушаю гулкую тишину огромного здания.
Тихое бормотание.
Шаги.
От которых все студенческие байки вспоминаются враз, заставляют нахмуриться, прислушаться и на призрачные звуки, ступая бесшумно, пойти.
До анатомического музея.
И… Дарьи Владимировны Штерн.
Она курсирует в рассеянной светом уличных фонарей темноте, фланирует между стеллажами с препаратами, подхватывает одну из многих банок с органами, отходит к окну и, поднимая тару, вопрошает напыщенно.
Передразнивает:
— Уметь показывать надо на любом препарате, Дарья Владимировна. Что, в операционной также попросишь другой мозг?!
— Дарья Владимировна, у меня что, настолько писклявый голос?
Промолчать не выходит, и в музей я захожу, интересуюсь злобно-вкрадчиво ледяным тоном. Приваливаюсь к стене и глаза на миг закрываю. Сдерживаю звенящее бешенство, что бьёт ударно по вискам и заорать на умнейшую Дарью Владимировну очень хочется.
Поинтересоваться едко, что в столь позднее время ходячий детский сад, не пылающий жаждой знаний, забыл вдруг на кафедре анатомии и как сюда попал, как хватило мозгов на подобные выкрутасы и чем собственно Дарья Владимировна думала.
Впрочем, не думала.
Ходячий детский сад сначала вытворяет, а потом только начинает медленно соображать своей единственной прямой извилиной: во что в очередной раз влипла.
И сейчас она сначала подпрыгивает.
А её ойканье тонет в звенящем грохоте препарата, что о бетонный пол ударяется, разлетается осколками и брызгами, расползается по музею удушающей вонью формалина и заполняется напряженной вязкой тишиной.
В которой Дарья Владимировна застывает, вытягивается струной, и поворачивается она ко мне медленно, после паузы.