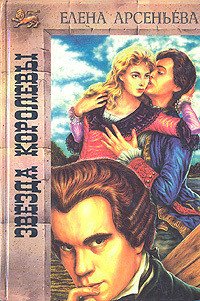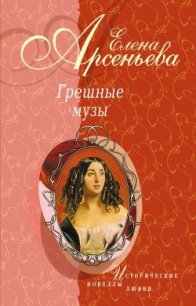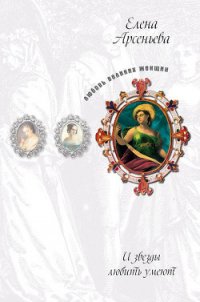Бог войны и любви - Арсеньева Елена (лучшие книги .txt) 📗
— Нет, брысь-брысь! Немедленно вставай и одевайся! Довольно ты дурачил сегодня этого доброго человека!
— Ну и что? Не зря же говорят, что дураки — самые счастливые люди на свете, — хмыкнул Оливье. — А что до его доброты, так за пятьдесят тысяч франков годового дохода я бы уехал от жены не на два-три часа, а… а… — Он был так возмущен, что не заметил, как напряглась Ангелина. — И, если на то пошло, не я один дурачил его, а мы. Мы вместе. Ведь если какая-нибудь хворь у тебя и была, то отнюдь не delirium tremens, — он даже икнул от смеха, — а самая вульгарная febris erotica! [102]
Ангелина опустила ресницы и выждала несколько мгновений, прежде чем смогла справиться с голосом и совершенно спокойно предложить Оливье все-таки подняться с постели.
Наконец, небрежно чмокнув ее на прощание, он направился к двери, так и не заметив, что подушка по обе стороны от ее головы, там, куда сбегали тоненькие горючие ручейки, мокра от слез.
Все оказывалось не таким, все обманывало ее! Она смертельно боялась, что человек, взявший ее в жены, начнет осуществлять свои супружеские права; боялась не того, что он возьмет ее силой, — боялась его старческого бессилия, которое ей придется преодолевать! Однако в первую брачную ночь де Мон только поцеловал ей руку и отправился спать в другую комнату. То же происходило и в последующие ночи. Разумеется, Ангелина не мечтала о ласках нотариуса де Мона. Она несколько побаивалась этого загадочного человека, так неожиданно взявшего ее под свое крыло… правда, цена его «первой любви» оказалась пятьдесят тысяч годового дохода, зато Ангелина теперь могла не бояться за будущее своего ребенка. Не зря сказано: «Довлеет дневи злоба его», довольно для каждого дня своей заботы, всегда Ангелина живо чувствовала справедливость этих слов. Что Богу угодно, то и случится, говорила она себе, стараясь просто жить, жить, как живется, — но не могла преодолеть страха за себя… Она чаще с ужасом вглядывалась в свою душу, с ужасом ощущала свое тело, ибо, произнеся священные слова обета супружеской верности, ощущала в себе непреодолимое желание изменять своему мужу. Ее сущность сделалась ей понятна — и отвратительна. Потребность в мужских ласках, вполне нормальная для женщины ее лет, казалась ей чем-то противоестественным. Ее влечение к Оливье сделалось после недельного воздержания неодолимым, оттого она и решилась на отвратительный обман своего мужа. Ну а Оливье был только счастлив удовлетворить не просто пыл, но и жажду мести человеку, который так мастерски обвел его вокруг пальца. Эта его мстительность и отталкивала, и притягивала Ангелину.
Его хотело ее тело — но не более того. Проникнуться сердечной склонностью она могла к тому Оливье де ла Фонтейну, который выиграл ее в карты, а потом спокойно и доверчиво уснул с нею рядом в блокгаузе, затерянном среди зимней России; к тому, который перебирался через мост, ежесекундно спасая ей жизнь; к тому, кто защитил ее от графини д'Армонти на окровавленном берегу Березины, кто внушал ей веру в будущее. Но, вернувшись в Бокер, он вмиг утратил отвагу, дерзость, задиристость и романтичность, которыми щедро наделили его война и Россия. Он превратился в мелкого буржуа, провинциального мещанина, который смысл своей жизни видит только в деньгах — и неважно, каким путем они достанутся! У него даже лицо изменилось. Оно стало хитровато-восковым, ненастоящим, французским! Ангелина стыдилась, что вожделеет к этому человеку, и ей становилось чуть легче, когда она сознавала: на его месте мог оказаться любой другой. Как приговоренный к тюремному заточению знает, что отныне вся его пища — вода и черствый хлеб, предназначенные лишь для насыщения, но отнюдь не для удовольствия, так и Ангелина не столько отдавалась, сколько брала Оливье, зная: он утолит ее голод, но не удовлетворит томления плоти. На всем свете существовал только один человек, который мог удовольствовать блаженством ее душу и тело, который способен был придать взаимно-приятным телодвижениям мужчины и женщины одухотворенность, гармонию и высшую красоту, превратив телесное соитие в любовное слияние сердец, предназначенных друг для друга.
Они с Никитой были предназначены друг для друга! Были, да… И сейчас Ангелина с трудом удерживала рыдания именно потому, что принуждена была всегда употреблять этот глагол только в прошедшем времени. Всю жизнь!
Но зачем ей такая жизнь?..
— Эй, красотка! — Оливье встревоженно коснулся пальцем ее щеки. — Что я вижу?
— Ничего, — буркнула Ангелина, приподнимаясь. — Иди, иди ты, ради Бога! Нет, скажи-ка мне сперва: а что такое, собственно говоря, делириум тре… как там?
— Delirium tremens? — расплылся в улыбке Оливье. — Белая горячка! Ну и глуп же этот местный эскулап! Даже я знаю, что delirium tremens может быть только у пьяницы, допившегося до чертиков!..
Он успел увернуться от летящей в его голову подушки, и та со всего маху обрушилась на вошедшего де Мона.
Однако лицо нотариуса осталось непроницаемым. Коснувшись ладонью растрепавшихся седых волос, он протянул подушку Оливье.
— Полагаю, это предназначалось вам?
Оливье хотел было, по обыкновению, снагличать, но как-то враз стушевался и ловчее угря выскользнул вон из комнаты.
Де Мон, по-прежнему невозмутимый, взбил подушку и подсунул ее под спину своей молодой жене.
— Как ваше здоровье, душенька? Надеюсь, вы вполне отдохнули, и action in erotica [103]… ох, простите, action in distans оказало свое благотворное влияние?
Ах, как холодны были его старческие водянистые глаза, утонувшие меж морщинистых век! И их презрительное выражение, и эти слова лишь подтвердили то, что с самого начала смутно подозревала Ангелина: де Мон, с его опытностью, наблюдательностью и проницательностью, в два счета разгадал плохую игру дурака доктора и самый смысл спектакля. Почему же он так охотно включился в него? Верно, потому, что был уверен, подобно многим французам, что ревность — постыдный порок, свойственный только варварам, что в просвещенных землях женщины должны быть свободны как воздух, что прихоть их должна являться законом для мужчин… а может быть, он хорошо понимал человеческую природу и полагал, что ежели жена его молода и ненасытна, то удобнее держать ее любовника в досягаемом пространстве и на виду, чтобы она не бегала на сторону. Так ли, иначе — все казалось Ангелине равно неприличным и противным. Но чего же другого ждать от человека, который ее купил и теперь никак не возражал, чтобы жену привязывала к мужу лишь супружеская неверность? Ох, ничтожество… Старое, дряхлое ничтожество!
Ангелина не смогла отказать себе в удовольствии высказать все это мужу. Мало что высказала — выкрикнула ему в лицо эти слова что есть мочи — и была немало удивлена, что презрение в водянистых глазах обратилось не в ярость, а в вежливое удивление. На мгновение опешив, Ангелина с трудом сообразила, что в опьянении злобы своей неожиданно заговорила по-русски. И это доставило ей такое наслаждение, такую чистую, почти детскую радость, что она не стала вновь переходить на французский и обрушила на тщательно прикрытую жидкими седыми волосами голову де Мона целый ушат самой непристойной русской брани — все, что только приходило ей на ум. При том сама в душе удивлялась, откуда поднабралась таких словесных перлов, среди которых «замороченный блядослов», «потасканный лягушатник» и «драный хрен» были далеко не самыми яркими. Наслушалась, конечно, в деревне, у дворни, потом в госпитале, от раненых, одурманенных болью, которые облегчали ею душу без всякого стеснения. А теперь со всем богатством русской простонародной речи мог познакомиться и нотариус.
Не скоро Ангелина угомонилась. И не потому, что запас ругательств истощился — нет, оказывается, она запомнила их поистине несметное количество! — просто перестала находить удовольствие в том, что ругает человека, который слушает с недоумением и все шире расплывается в улыбке.
102
Любовная лихорадка (лат.).
103
Любовное воздействие (лат.).