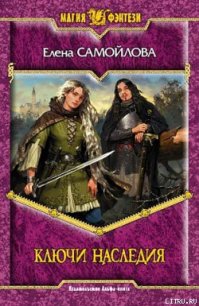Красота полудня (Карл Брюллов – Юлия Самойлова) - Арсеньева Елена (читать полную версию книги .txt) 📗
Вот лишь несколько строк из этих унизительных, позорных объяснений.
«Убитый горем, обманутый, обесчещенный, оклеветанный, я осмеливаюсь обратиться к Вашей Светлости, как главному моему начальнику, и надеяться на великодушное покровительство Ваше…»
«Я влюбился страстно… Родители невесты, в особенности отец, тотчас составили план женить меня на ней… Девушка так искусно играла роль влюбленной, что я не подозревал обмана…»
«Родители девушки и их приятели оклеветали меня в публике, приписав причину развода совсем другому обстоятельству, мнимой и никогда не бывалой ссоре моей с отцом за бутылкой шампанского, стараясь выдать меня за человека, преданного пьянству…»
«Я так сильно чувствовал свое несчастье, свой позор, разрушение моих надежд на домашнее счастье… что боялся лишиться ума»…
Толпа обожает наблюдать крушение своих недавних кумиров. Очень многие знакомые отвернулись от Брюллова. Имя его все равно оказалось запятнанным: ведь это какой позор – иметь такую жену!
Развод был получен к концу года в связи с «крайне печальными отношениями между супругами». Об этих «отношениях» судачили многие, и Брюллов вынужден был поспешно покинуть Петербург.
Но – не один.
Его «беззаконная комета» вдруг явилась в Петербурге, вроде бы хлопоча по делам наследства. А на самом деле – спасая своего возлюбленного друга из той пучины черной меланхолии, в которую он уже совсем было погрузился.
Однако какой странный рок преследовал Брюллова! Жена – жертва инцеста, но ведь и божественная Юлия – дитя, по слухам, такого же инцеста… Поистине, не зря шепталась досужая публика, будто у изголовья колыбели Брюллова стояли рядом бесы и ангелы!
Но это всего лишь реплика.
А наследство Юлия получила от приснопамятного мальтийского кавалера, графа Литты.
Джулио было семьдесят, однако он все еще считал себя малым хоть куда – да и был таковым. Вино, по отзывам знавших его людей, хлестал, как гусар на биваке. И вообще в удовольствиях себе не отказывал. Рассказывали, будто накануне смерти Юлий Помпеевич опустошил громадную форму мороженого, рассчитанную на двенадцать порций, восхитился искусством своего повара: «На этот раз мороженое было просто необыкновенным!» – и отправился в мир иной, испытав последнее доступное ему бренное наслаждение. Все его огромное состояние досталось Юлии.
Итак, она явилась в Петербург, где ее уже успели подзабыть и даже с трудом узнавали. «Она так переменилась, – записал в дневнике К.Я. Булгаков, – что я бы не узнал ее, если бы встретил на улице, похудела, и лицо совсем сделалось итальянское. В разговоре даже имеет итальянскую живость и приятна…»
Юлия немедленно узнала главную злобу дня: историю с женитьбой и разводом ее бывшего любовника. Немедленно были забыты все недоразумения: она кинулась в мастерскую Брюллова, несомая порывом вновь нахлынувшей любви – этой ее необыкновенной любви, в которой к безудержной женской страстности примешивался оттенок бескорыстной, почти мужской дружбы.
Они прильнули друг к другу и долго не могли разомкнуть объятий, почти с изумлением осознавая свою небывалую, другим непонятную близость. Наконец смогли вновь взглянуть друг на друга.
Юлия была ослепительна.
Карл был удручен, несчастен… но уже с кистью в руке.
– Жена моя – художество! – усмехнулся Брюллов, избегая объяснений.
Да эти объяснения и не были нужны. Потому что Юлия, эта страстная вакханка, немедленно принялась врачевать уязвленное мужское самолюбие друга самым доступным и самым приятным способом. И делала это так хорошо, что впервые в голосе раздавленного унижением Бришки появились те снисходительные торжествующие нотки, которые были ей так хорошо знакомы по Италии. Ну да, помнится, они лежали на алом бархатном покрывале на помосте в его мастерской, сплетаясь телами и мыслями, и Карл свысока поучал ее, открывая тайны своего мастерства… разумеется, мастерства художника, другим тайнам ее учить не нужно было. Она и сама могла кого хочешь научить!
Убедившись, что Брюллову полегчало, Юлия снова поселилась в своей Графской Славянке. Дом для нее перестроил брат Брюллова Александр, сделав из него истинный шедевр архитектуры. Графиня давала балы, собирала к себе весь цвет петербургского бомонда, и вечера в ее обществе были так прекрасны, что, говорят, даже Царское Село опустело: свет предпочитал проводить время у графини, чем у императора с императрицею.
Ходили слухи, будто Николай Павлович предложил графине продать ему Графскую Славянку. Юлия-де усмехнулась:
– Скажите государю, что ездили не в Славянку, а к графине Самойловой. И где бы она ни была, будут продолжать к ней ездить.
Оставив Славянку, графиня отправилась в прекрасный вечер на Елагин остров и доехала до той стрелки, где в то время пел только соловей и вторила ему унылая песнь рыбака со взморья.
Став на эту стрелку, Юлия сказала:
– Вот сюда будут приезжать к графине Самойловой.
И в самом деле – до нашего времени дошли такие сведения – уже со следующего дня в дикий уголок Елагинского острова начали приезжать поклонники графини. В каких-нибудь две-три недели Елагинская стрелка стала местом собраний для всего аристократического и элегантного общества Петербурга.
Юлия продала Славянку богачу Воронцову-Дашкову, а у того вскоре перекупил имение император, назвав его на свой лад – Царская Славянка.
На память о жизни Юлии в Славянке художник Петр Басин, приятель Брюллова, изобразил ее в парадной зале любимого имения. Портрет получился сдержанным – просто отчет о внешности графини: была-де на свете вот такая красавица, одна из многих…
Карл Брюллов тоже начал портрет Юлии, своим любящим, а значит, вещим сердцем предугадав, что это будет ее последнее посещение России. Именно поэтому картина получила странное длинное название: «Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, рожденной графини Пален, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини».
Между Юлием и обществом, которое она покидает, Брюллов опустил тяжелую, ярко пылающую преграду занавеса – алого… опять алого! – словно отрезав от нее общество. Она сорвала маску и предстает перед зрителем во всем откровенном блеске своей красоты, а за ее спиной колышутся смутные очертания маскарадных фигур. К этим невыразительным фигурам вернуться уже не захочется.
Так оно и вышло. В России ее больше ничто не держало. «Санкт-Петербургские ведомости» вскоре известили читателя, что графиня Самойлова покинула столицу, выехав в Европу… навсегда!
Только уехала она не одна: увезла с собой «Бришку драгоценного», которого скрутила неожиданная болезнь. Скрутила в самом прямом смысле: руки сводило судорогой, он не мог повернуть шею – сказалось нервное перенапряжение. Да и сквозняки, которые терзали его на лесах под куполом Исаакиевского собора, будут еще долго напоминать о себе.
Солнце Италии, любовь Юлии на какое-то время вернули ему бодрость. Но ненадолго.
– Я жил так, чтобы прожить на свете только сорок лет, – говорил художник. – Вместо сорока я прожил пятьдесят, следовательно, украл у вечности десять лет и не имею права жаловаться на судьбу. Мою жизнь можно уподобить свече, которую жгли с двух концов и посередине держали калеными клещами.
Страсть тоже была пережжена, как и жизнь. Это только говорится, что женщины стареют раньше! Карл Брюллов был старше Юлии всего на шесть лет, но он уже казался рядом с ней стариком, одержимым только своими хворями. И в конце концов Юлия пожала своими мраморными плечами – и удалилась с бала этой страсти, подобно тому, как она удалилась с бала у персидского посланника на картине Брюллова.
А он то уезжал на Мадейру, то возвращался в Петербург, то снова отбывал в Италию…
Прошло девять лет.
Двадцать третьего июня 1852 года Карл Брюллов, в очередной раз приехавший в Италию для лечения застарелого ревматизма сердца и поселившийся в селении Манциано, в семье своего преданного друга А. Титтони, внезапно скончался после тяжелого приступа. Незадолго до этого он написал картину «Ночь над Римом». Закончив ее, с закрытыми глазами ткнул кистью в полотно и велел похоронить его в этом месте. Оказалось, что он указал на кладбище Монте Тестаччо. Там его и погребли – точно в указанном месте.