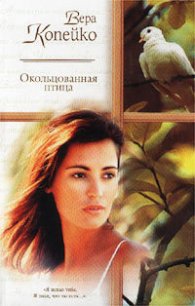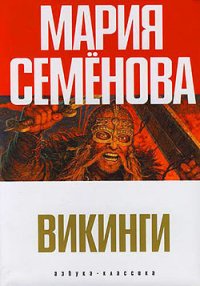Прощай, пасьянс - Копейко Вера Васильевна (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Да, они ушли. Но она здесь. Она еще долго будет здесь. Как говорила любимая матушка, Господь призывает к себе тех, кто все сделал на этом свете. А у нее еще полно дел. Вон сколько птенчиков открывает рот, стоит им завидеть ее издали. Девочки, мальчики. Всех надо поднять. Всем надо дать ремесло в руки, чтобы, выйдя отсюда, они могли прокормить себя.
О воспитательном доме ходили разные толки. Кто-то одобрял, что он есть, а кто-то и осуждал. Последних, пожалуй, раньше было больше. Говорили, мол, незачем устраивать приют для незаконных детей. Разве это не способ покрывать нынешний разврат?
Но сама она видела в этом жест милосердия. Виноваты ли младенцы в грехах родителей? Не будь этого приюта, что сделали бы матери? Совершили бы преступление, вот что. Они лишили бы жизни невинные души, желая скрыть их появление на свет. А что оставалось бы делать матерям, если они не смогли бы их устроить? Они ведь не в силах воспитать их.
Севастьяна любила этот уютный дом на берегу Лады, любила своих воспитанников. Она не хотела, чтобы дом походил на казенный приют. Она хотела, чтобы это был их дом, а она всем мать. Почти во всех этих детях есть кровь и новгородцев, хоть и в дальних поколениях, но есть, Она учит их слышать голос могучей, вольной крови, она поможет им устроиться на этой земле. Девочки умеют ткать на станке лен, некоторые даже плести кружева из льняных нитей. А мальчики ловко выделывают шкурки и владеют толстой иглой, которой эти шкурки сшивают. Она рада этому.
Севастьяна вошла в свою спальню — не на всякую ночь она возвращалась в свой собственный дом, а оставалась здесь, заперла за собой дверь. Она засунула руку в карман и вынула деньги. Снова пересчитала ассигнации. Достала с полки серебряную шкатулку, которую привез ей Степан из Китая. Положила в нее деньги, подержала в руках, пытаясь уловить какую-то неясную мысль. Она никак не могла ее поймать. Так бывает, когда силишься, но не можешь удержать в памяти только что увиденный сон. Вроде бы и проснулась, глаза мир видят, а сон тает, как туман. Причем сон-то важный, который обещает открыть тебе будущее, но не ухватишь его.
Севастьяна с досадой поставила на стол шкатулку, тяжелое серебро стукнулось о массивную дубовую крышку. Подошла к окну, отодвинула гардины и скрестила руки на груди. Из окна хорошо виден другой берег реки, пологий, длинным языком он вдавался в дремучий лес. Вот тут они переправлялись через реку на лошадях. Со Степаном. В их первую ночь. Тогда пал густой туман, покровитель любовников, как шутил Степан, а ее сердце при этих словах горело огнем и посылало этот огонь ниже, ниже… Чресла требовали своего… Свет луны, пробивавшийся сквозь туман, серебрил все вокруг.
— Ох, что мы делаем, Степан? — шептала она, а голос срывался.
— Скажи лучше, как нам везет. — Он наклонился к ней и пощекотал жесткой бородой длинную шею. Он не брил бороду, он не подчинялся запретам, не пугали его и штрафы, веденные, еще при Петре: хочешь одеваться в русский кафтан, а не в немецкий, хочешь носить бороду по грудь — изволь платить в казну. Не, знала она, жив ли тот указ или его отменили, но борода Степана была жива, она щекотала ее, а тело таяло… — Скажи лучше, как нам везет с туманом. Луна-то, смотри, будто на сносях. — Он засмеялся своей шутке.
Севастьяна тотчас подхватила:
— По мне так уже не на сносях. Уже воды отходят.
Он крякнул.
— Ага, и превращаются в туман. Который нас с тобой укроет. Ты скажи еще, что нас с тобой луна родит. За что я тебя люблю, милая, это за непохожесть на других баб.
— Ты мне уже говорил, — фыркнула Севастьяна.
— Еще сто раз скажу. Нет, тысячу.
Она замерла при этих словах.
— Так ты не… на раз меня зовешь в лесок?
— А ты разве пошла бы на раз? — Он хихикнул и снова пощекотал ей бородой шею, только теперь уже возле самого ее основания. Ворот кофты раскрылся, кончик бороды нырнул глубже. От прикосновения к нежной коже на груди Севастьяне стало щекотно. Она засмеялась и опустила подбородок. И тут же его губы крепко впились в ее рот. — Говори, пошла бы на раз? — Он оторвался от нее и произнес свои слова на выдохе.
— Не пошла бы. Даже с тобой, Степан.
— То-то и оно, а еще вопросы задаешь. Я верно говорю, не похожа ты на других баб.
— Будто сам похож на других мужиков, — хриплым голосом проговорила Севастьяна.
— Я такой, какой тебе подходит.
— Тогда почему же мы с тобой раньше не встретились? — Она тяжело дышала, а он обнял ее, увлекая на землю.
— Потому что раньше мы такими не были.
— Не были? — прошептала она следом простые слова, пытаясь обнаружить в них иной смысл. Желания собственного тела вытеснили из головы все мысли, а слова слетали с губ просто потому, что они к ним прилипли раньше.
Федор горячей рукой обвил тонкую талию Севастьяны, а другая рука нырнула под кофту и уже мяла ее грудь.
— А может, туман похож на ад, — пробормотала она, сама не зная почему.
— Отчего ж не на рай? — отозвался Федор, лаская губами мочку ее уха. Она вздрогнула от удовольствия, пронзившего ее тело словно иглой.
— Потому что в раю свет и солнце. А в аду из котлов пар идет. Как сейчас, там все в тумане.
Степан засмеялся, отнимая губы от ее уха.
— Сейчас разгоним туман, — пообещал он ей. — Ты увидишь солнце. Да такое и столько его, что глазам больно станет…
Севастьяна хрипло рассмеялась, вспоминая ту ночь. Горло перехватило, как тогда.
Да, не обманул Федор. И тогда, в их первую грешную встречу, и потом, во все последующие, она явственно видела раскаленное солнце. Такого солнца не увидишь даже в раю. Она в том не сомневалась ни единого мига.
Внезапно при мысли о солнце и Степане она уловила то, что от нее ускользало так долго.
Павел. Брат Федора. Самый младший, поскребыш, как говорят. Любимый сын Степана Финогенова.
Она вздохнула, плотнее прижала крышку к шкатулке. Потом достала из кармана связку маленьких ключей и вставила один в узкую прорезь. Повернула три раза. Вот так-то надежнее, решила Севастьяна.
Да, любимый сын Степана Финогенова вовсе не Федор. Федор — сын уважаемый, А любимый — Павел. И, как бывает, ради любимого, в угоду ему родитель готов обделить других детей. Но при этом он всегда найдет объяснение — почему. А если есть объяснение, да не простое, а премудрое, то это значит одно: были муки перед тем, как додуматься до того, до чего додумался. До несправедливого.
— …Ты на самом деле хочешь это сделать? — услышала она свой голос, в котором невольно прозвучало возмущение, когда Степан поделился с ней своими намерениями. Он не ради уважения к ней делал это и не ради желания посоветоваться. Чужие советы ему никогда не были нужны. Он сам их тоже не раздавал, потому что считал — что сказал, то улетело. Дело заключалось в другом. Севастьяна писала грамотнее, чем он, а он хотел, чтобы, последняя его воля, изложенная на бумаге, толковалась ясно, так ясно, чтобы и комар носа не подточил.
— Поняла, почему я тебе это показываю? — Он величественно взглянул на нее, пытаясь гордой посадкой головы подчеркнуть, что снисходит по одной лишь, причем вынужденной, причине. Неграмотность была делом обычным и никем не осуждаемым. Грамотность — напротив, необычным и зачастую осуждаемым. Поэтому в умении Севастьяны писать и читать правильно он не видел никакого превосходства над собой. — Я хочу, чтобы все было яснее ясного, поняла?
— Но я же не кукла, мякиной набитая, — проворчала она. — Я читаю и думаю.
— А ты не думай. Тебе-то что? О тебе я позаботился. — Он самодовольно усмехнулся. — Ты меня не забудешь до конца дней.
— Спасибо, Степан. Но… но мне жаль Федора. — Она внимательно посмотрела на него. По ее черным глазам было видно, что она ждет ответа.
— А чего ты его раньше срока оплакиваешь? — ухмыльнулся он. Потом сощурился и спросил: — Или знаешь чего? Чего я не знаю?
— Нет, — ответила она.
— Так чего же? У меня дети посыпались через девять месяцев после венчания. Так, может, за пять-то лет, которые я дозволяю ему с женой пустовать, — он поднял вверх указательный палец, призывая Севастьяну осознать, как велик срок, — у него пятеро родятся? Тогда все станет его, все, что мной ему отписано.