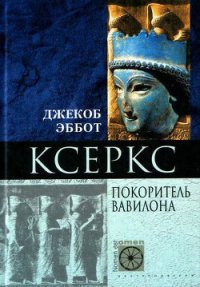Рабыня Вавилона - Стоун Джулия (лучшие книги txt) 📗
Адапа быстро прошел через двор. Ливиец вскочил, расплескивая мыльную воду. Адапа сгреб его за шкирку и шепотом спросил:
— Отец дома?
— Да, недавно прибыл, — так же шепотом ответил раб.
Адапа оттолкнул его и вошел в прихожую. Едва уловимо пахло миртом. Он остановился в темноте. Из глубины комнат доносились струнная музыка и смех. Ноздри его хищно дрогнули.
Иштар-умми лежала на супружеском ложе нагая, как в день своего рождения, ужасная в своей красоте. Спальня была убрана алыми драпировками, девочки-рабыни в красных одеяниях порхали под переливы струн.
Адапа остановился в дверях как вкопанный. Иштар-умми захохотала. Музыка оборвалась, девочки остановились, и медленно-медленно, плавно, красным туманом опали края их одежд. Маленькие рабыни столпились вокруг музыкантши, не зная, что им делать. Потом все как по команде смущенно заулыбались.
— Ну, что же ты-ы! — закричала Иштар-умми, скаля молочно-белые зубы. — Что ты! Будто статуя. Или забыл меня?!
Иштар-умми села, крупные груди дрогнули. Ее круглое розовое лицо цвело. Ах, как красила ее улыбка!
— А я вот помню. Все жду, мучаюсь. Ах, как же я мучаюсь, как жду! Как по росе укатил, так вот и жду.
Она спустила на пол ноги, подошла к нему нежная, белая, покачивая бедрами, — обдала женским запахом, миртом. Сказала просто, по-детски заглядывая в глаза:
— А ведь ночь уже…
Обвила руками его шею, точно лианами горло стянула, привлекла к себе, оттолкнула. Он шевельнуться не мог. Какая-то большая, главная мысль птицей билась и никак не могла оформиться, только мучительно: «Поздно. Почему не пришла раньше, не разбудила? Почему теперь, когда гибну, с ума схожу от любви, но не ты причастна к этому, милая. Всегда будешь чужой. За что мне это, боги? Чем так провинился? Поздно, поздно! Теперь только и остается, что молиться!»
— Остается молиться, — прошептал он.
— Молись! Что— же ты, виноват передо мной? Повинись, уж я-то прощу.
Она обошла вокруг него, не отнимая плеча, змеей обвилась, словно кольца стягивала. «Ведьма!?»
— Люблю тебя, — в лицо дохнуло жарким шепотом, виноградным вином. — Хочешь, для тебя танцевать буду?
Она щелкнула пальцами, арфа отозвалась. Крылья развернулись за спиной Иштар-умми, туманные, в голубоватой дымке, а по краям — синие-синие. Глаза ее горели яростью. Адапа попятился.
— Люблю тебя. Чего тебе еще? Или о другой думаешь? Брось ее. Забудь.
Арфа струилась холодной водой меж камней. Далеко сгрудились горы, тьма обволакивала лесистые склоны, в разломах синел мрак. Наверху алели снега. Солнце падало отвесно. Мечи лучей протыкали расселины. Иштар-умми танцевала, смеялась, а глаза глядели с прищуром.
— Люблю!
Бубен вздохнул, загудел тихонько, встряхнул плеск арфы, его монисты зазвенели и оборвались.
— Люблю!
Она порывисто отвернулась от него, как от врага. Заискрилась наготой.
— Брось ее, Адапа. Слышишь?
Он не удержался, рванулся назад, закрыл дверь.
— Слышишь? Адапа! — крикнула она вслед и надрывно, истошно заверещала: — Адапа, Адапа!
Он прижался к стене. Что-то творилось с ним. Он боялся увидеть ее вновь такую — белую, в красном свете. Но дверь не открылась.
— Ты что, рехнулся? — Набу-лишир вскочил, и поддел, ногой стул. — Ты пьян, что ли?
— Нет, отец, — Адапа прислонился к колонне, скрестив на груди руки.
— Я был уверен, что мой сын сначала думает, потом говорит. — Губы Набу-лишира вытянулись в нитку, дрожали.
— Отец, ты хотел этой женитьбы, не я! — воскликнул Адапа.
— Тише! — Набу-лишир сделал страшные глаза, засопел. — Услышат еще…
— Отец, я выполнил твою волю. Тебе не в чем упрекнуть меня. Но я не могу жить с этой женщиной. Я дам ей развод.
Набу-лишир надвинулся, как туча, засипел в лицо, стуча себя указательным пальцем по лбу:
— Не понимаешь, что говоришь.
— Я решил так, — упрямо сказал Адапа. — Решать буду я! Сейчас, завтра и всегда. Отец…
— Я не хочу, чтобы стали говорить, будто сын государственного судьи — мошенник. У меня хватит сил защитить семью. Ни ее, ни нас позорить не дам.
— Я не люблю ее.
Под сводом террасы повисло молчание. Адапа был разозлен, расстроен, все плыло перед глазами. Лицо отца — размытое, багровое пятно — отодвинулось.
— Кто тебя про любовь спрашивает? — отозвался, наконец, он.
— Ты женился на моей матери, потому что любил ее. Почему у меня отнимаешь это право?
— Стало быть, — медленно произнес судья, — у тебя есть возлюбленная?
Адапу точно окатили ледяной водой.
— Отвечай, ну!
— Н-нет, — он сглотнул всухую.
Песок, мелкие камешки посыпались в пропасть, а там — тьма, небытие, ужас.
— Стало быть, нет?
Адапа молчал.
— Волчонок, — Набу-лишир усмехнулся. — Твоя жена беременна, ты забыл? У тебя нет оснований для развода.
Подул горячий ветер. Терраса, вся золотая от солнца, качнулась. Тело горело внутренним жаром, пульсировал коричневый цветок начинающейся лихорадки. Все от той же жгучей мысли; что он предал Ламассатум, черты лица его мучительно исказились. Адапа извинился и покинул террасу.
Анту-умми написала Уту-ану, что будет ждать его в местечке Шуррупак-эль-Кар, близ Дильбата. Думая о сыне, не заметила пыльной дороги, узких, кривых улочек, мощенных камнем. Отпустила повозку, улицу и до края прошла пешком, закрывая лицо шалью. Хижина пуста. К приезду Анту-умми все подготовлено; Жаровня с углями, чистые циновки. Она сидела, поджав ноги, слушая, как кров шуршит тростником и пальмовыми листьями. Смеркалось. Сумерки как река втекли в хижину.
Шуррупак-эль-Кар затихал. Послышался дробный стук копыт. Замер. Уту-ан отодвинул легкую дверь, вошел.
— Мама, — окликнул тихо.
— Милый, — отозвалась Анту-умми.
— Почему ты не зажжешь лампу?
— Жду тебя. В темноте ощущаешь, как время течет вокруг, словно сонный поток.
Он почувствовал, что она улыбается.
— Я скучал по тебе, очень скучал, мама.
Она его обняла, снова про себя отметив, что он выше нее на голову.
— Прости, что видимся так редко. Но я всегда помню о тебе. Каждую минуту моей жизни ты со мной.
В объятиях Уту-ана она расцветала. Третьего дня в начале четвертого двойного часа ночи служанка провела в ее покои юношу, сына столяра. Тогда, в Борсиппе, она заметила его на рынке. То ли свет так упал, резко выявив глаза и заостренные скулы, или это жест, каким он осторожно поправил локон, выбившийся из-под шапки, или сон, увиденный накануне, но сердце ее вдруг провалилось куда-то, на миг Анту-умми показалось, что перед ней Уту-ан. Она остановилась в тени навеса, где на низких ложах люди отдыхали от полуденного зноя и пили холодную воду и пиво. Юноша не уходил. И тогда она решилась. К нему подошла ее рабыня с кожаным кошельком в руке. Теперь, вспомнив ту жаркую ночь, она тихо рассмеялась.
— Тебе весело? — спросил Уту-ан.
— Я радуюсь, милый! Радуюсь. Я бы не вынесла больше и дня без тебя. Почему все так? Почему мы не можем быть вместе?
— Ты уже знаешь ответ… — он поцеловал ее висок, ухо, шею. Тяжелая серьга Анту-умми царапнула его щеку.
— Ах, родное сердце, — вздохнула она. — Мы преступники. Нас убьют, если узнают.
— Ты боишься?
— Чего? Смерти? Милый, я боюсь только одного, что ты разлюбишь меня, бросишь ради другой.
— Не говори так. Никто не сравнится с тобой.
— Боги накажут нас.
— Нет, ведь они сами дали людям любовь. И одна лишь любовь — величайшая ценность этого мира.
— Ты прав, мой дорогой, моя плоть и кровь. У тебя — мои глаза, моя улыбка мое сердце. Я люблю тебя.
Ответом ей был долгий поцелуй.
Снова шли дни, похожие, точно близнецы, чередой, сменяя друг друга. Ламассатум жила вне времени, ей казалось, что она со стороны наблюдает за происходящим вокруг. Она сильно исхудала, появились круги под глазами. Это шло Ламассатум, теперь она больше чем прежде казалась неземным существом. Сегодня Нингирсу — господин — долго не отпускал ее. Вечер Ламассатум провела в его покоях, читала поэмы, готовила напитки. Нингирсу горой возвышался в кресле, поставив одну ногу на скамеечку и подперев кулаком щеку.