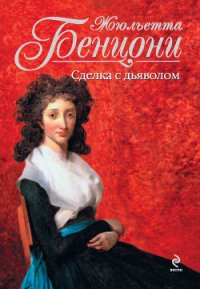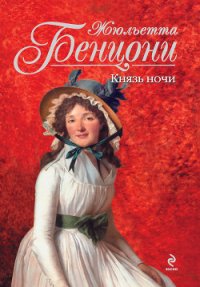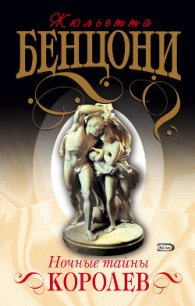Волки Лозарга - Бенцони Жюльетта (книги хорошего качества TXT) 📗
– Возьми меня! Я с ума схожу…
В его улыбке обнажились белые, как у волка, зубы.
– Хочешь? Сейчас?
– Ты и сам хочешь…
– Конечно! Только мне надо было, чтобы ты сама сказала… Я хотел убедиться, что в добропорядочной графине де Лозарг не умерла моя маленькая лесная нимфа…
Он взял ее на руки, отнес на диван, и они утонули в море подушек. И тотчас же их тела закружило в едином танце любви и, накрыв волной блаженства, увлекло в огненном вихре страсти. В миг наивысшего блаженства Гортензия громко застонала, и чуть позже, вспомнив об этом, Жан улыбнулся.
– Ты выла, как волчица, – поддразнил он ее, прижавшись губами к ее шее, там, где еще билась, пульсируя, голубая жилка.
Она отстранилась и подставила ему губы.
– Я и есть твоя волчица… Говорю же тебе: мне ничего не надо, только бы жить с тобой… и с нашим сыном в домике в самой чаще или в ущелье… их ведь там у нас не счесть…
Он удивленно взглянул на нее.
– Ты сказала: «у нас»? Ты и вправду так думаешь?
– Да, да, у нас! Знаешь, впервые очутившись в Лозарге, вырванная из тихой, спокойной жизни, я была просто обескуражена, думала, что попала в ад. А потом я узнала тебя, полюбила, и рухнуло все, что составляло мое прошлое. Теперь здесь я в аду… А рай для меня – это домик на берегу бурной реки; я столько раз вспоминала его в Париже…
Лоб Жана прорезала горестная морщина.
– Гортензия, этого дома больше нет. Ты уехала, и когда меня там не было, пришел маркиз со своими людьми. Все перевернули вверх дном, а потом подожгли… У меня ничего не осталось. Так что, душа моя, я ничего не могу предложить тебе.
– Боже, – простонала Гортензия, – боже, как мог ты допустить, чтобы такой злодей жил среди нас, смертных?
– Допустил, и еще как! – воскликнул Жан. – Я даже знаю некоторых и похуже. Например, того, кто пытался тебя убить… Меня-то жалеть нечего. Мы со Светлячком нашли себе удобную пещеру. И Франсуа помог…
– Но… как ты доехал, откуда эта одежда? Где ты ее достал?
– Тут мне помогла мадемуазель де Комбер. Она была… очень добра ко мне.
– Дофина? Но ведь ты воюешь с маркизом, а она никогда никого в мире, кроме него, не любила. К чему ей тебе помогать? Чтобы доставить удовольствие своему фермеру?
– Нет. Я думаю, между ней и маркизом произошла громкая ссора. Ты знаешь, Франсуа не болтлив, но он намекнул, что там вышла ужасная сцена. Мадемуазель де Комбер болела, когда ты уезжала, но как только обо всем узнала, сразу попросила Франсуа отвезти ее в Лозарг. Не знаю, что они там наговорили друг другу, но мадемуазель Дофина, выходя, была просто вне себя. В карете она разрыдалась и проплакала всю дорогу, а когда приехали в Комбер, заперлась у себя в спальне, улеглась в постель и вышла только на третий день. На ней лица не было.
– Бедная Дофина! Какой страшной порой бывает любовь.
– Бывает и приятной, правда? От любви никогда не устаешь… можно начинать все снова и снова…
Он опять стал ее целовать, нежно касался губами ее глаз, шеи, рта. И вновь Гортензия, позабыв о Дофине, задрожала всем телом, повинуясь мощному призыву. Она растворялась в его поцелуях, обжигающих, как огонь, но на этот раз не хотела лишь получать, ничего не давая взамен. На поцелуй она отвечала поцелуем, на ласку лаской, и ей было приятно ощущать, как содрогается от восторга мощное тело мужчины.
Так много раз они умирали и вновь воскресали навстречу любви. С приближением ночи страсть их все более разгоралась, и когда они наконец обнаружили, что даже не притронулись к ужину, оба почувствовали волчий аппетит.
Взяв с собой поднос на диван, они устроились среди подушек. Все давно остыло, но ужин показался им удивительно вкусным, оттого что они ели вместе. Давно уже так не случалось, с тех самых пор, когда зимним вечером Гортензия, приехав в Овернь из Парижа, появилась перед Жаном и его волками на заснеженной поляне. Тогда они ели обычный пирог. И никогда еще прежде им не удавалось провести всю ночь в объятиях друг друга. Доев ужин, они снова обнялись, только на этот раз, чтобы вместе уснуть. С последним поцелуем Гортензия закрыла глаза и перенеслась в чудесный мир снов, где невозможное становится возможным.
Когда около десяти часов утра в дверь постучался Делакруа, Гортензия еще спала, но Жан, привыкший просыпаться с рассветом, уже был на ногах и даже прибрал в комнате. Художник сгибался под тяжестью полной яств корзины, которую поставил у печи.
– Вот, принес провизию! – сообщил Делакруа. – Ведь вы еще побудете здесь? По крайней мере так мне дала вчера понять графиня Морозини. В общем, лучше иметь свою еду. Из кафе приходит славный мальчик, но он не в меру любопытен, а любопытный человек многое может разболтать.
Гортензия, проснувшись от их голосов, высунула голову из-за полога.
– Что же, вы теперь останетесь без мастерской? Это будет несправедливо.
– Никакой несправедливости я тут не вижу, – засмеялся Делакруа, совсем как Жан. – Я здесь еще немножко побуду. Придет Тимур на наш обычный сеанс. Если не помешаю, я бы остался до второй половины дня.
Гортензия, снова одевшись в фланелевую красную блузу, встала с дивана и подошла к Делакруа.
– Как нам благодарить вас?
– А я уже получил награду. Графиня Морозини все-таки согласилась мне позировать.
– Наконец получите свою Свободу? Я так рада! Но, с другой стороны, мы привыкли сами платить свои долги.
Он подошел к ней и, взяв легонько за подбородок, повернул ее лицо к теплому свету, лившемуся из широкого окна в потолке.
– Почему бы вам не отплатить мне той же монетой? Вы, сударыня, сегодня утром ослепительно красивы. От вашего лица словно исходит особое сияние, такой я вас никогда еще не видел. Неужели это от счастья вы так сияете?
– Конечно, – ответила Гортензия, – я бесконечно счастлива и этим во многом обязана вам.
– Ну, не преувеличивайте. Я тут ни при чем. Моя здесь только комната, она, как шкатулка, куда вы поместили свое счастье. Но я все равно рад, что встретился с ним. Я и не верил, что счастье бывает на свете…
– У вас есть все, чтобы быть счастливым, – вмешался Жан. – И к тому же удивительный талант… Я всего лишь лесной человек, но когда вижу нечто из ряда вон выходящее, то преклоняюсь, – добавил он и пошел за большим полотном, которым любовался утром. Это был эскиз с картины «Казнь дожа Марино Фальеро». Действие происходило на главной лестнице Дворца дожей, вся сцена была написана с таким величием и красотой, что дух захватывало. В самом низу полотна, в тени и словно бы преданное забвению, лежало обезглавленное тело дожа. Оно как бы уже и не существовало, а жизненную основу картины составляла величественная, сияющая золотом герцогская мантия. Ее с лестницы несли трое. Она-то, эта мантия, и свидетельствовала о том, что не все еще потеряно, что владычество Венеции непоколебимо.
Все трое долго молча смотрели на картину. Наконец Жан отнес ее обратно и первым нарушил молчание:
– Не требуйте от бога слишком многого… Вам и так немало дано. А у нас лишь только это хрупкое счастье, и минуты, которыми благодаря вам мы наслаждаемся сейчас, возможно, еще не скоро повторятся…
Он отвел глаза, чтобы не встречаться с полным тревоги вопрошающим взглядом Гортензии. Значит, ему предстоит уехать? Вопрос так и жег ей губы, но она промолчала.
Страстно увлеченный своим искусством и счастливый оттого, что в этом незнакомце он нашел искреннего поклонника своего таланта, Делакруа, которого так часто ругали именно за то, что не понимали его картин, поворачивал свои полотна, с неподдельной радостью стремясь все им показать. Вот он сорвал покрывало с полотна на высоком мольберте, и перед Гортензией предстал гордый турецкий всадник, похожий на Тимура как две капли воды, но только этот, с картины, был восхитителен, весь охваченный воинственным пылом…
– Сейчас воспользуюсь тем, что вы пока здесь, и нарисую вас обоих. Нечасто встречаются такие лица.
Он начал с Гортензии, усадил ее на возвышение, расправил складки кроваво-красной одежды. И взялся за эскиз, а Жан, стоя сзади, наблюдал за его работой.