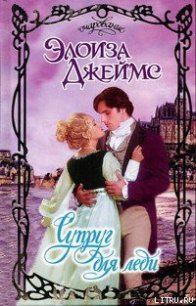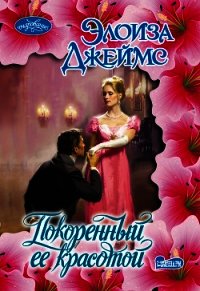Премудрая Элоиза - Бурен Жанна (читать полностью книгу без регистрации TXT, FB2) 📗
Матушка Агнесса и сестра Марг следили глазами за этим нежным движением, повторявшим, казалось, ритм молитвы.
«Жила в Париже девушка, именем Элоиза».
Помнишь, Пьер, ты написал так одному из друзей, — в том самом письме, о котором потом столько говорили? Некоторое время спустя случай — не знаю, счастливый или несчастный — привел письмо в мои руки. Когда я прочла эту фразу, меня словно обожгло волнением. Я по-прежнему ощущаю его, вспоминая об этом.
Именно так, в самом деле, все и началось.
Мне было шестнадцать лет, я едва успела покинуть стены монастыря Пресвятой Девы в Аржантейе. В обители я с самого раннего возраста выказывала склонность к умственным занятиям. Мой дядя поощрял эту склонность, веля давать мне дополнительные уроки. Ты знаешь, как я умею доказывать свое упорство и настойчивость. Учеба стала моей первой страстью. Можно сказать, на протяжении долгих лет я питала себя греческим, латынью и древнееврейским. Святое Писание, теология, физика, стихосложение и музыка — все они, не считая более привычных женщинам искусств, открывали мне свои секреты. Мне предстояло, однако, пожать лишь горькие плоды этих познаний, собираемых с таким усердием. Кто бы мог тогда в это поверить? Совсем юной я приобрела известность благодаря познаниям, которыми в то время обладали среди женщин лишь немногие. Обо мне заговорили в королевстве. Мне это было небезызвестно, и я возгордилась. В то же время, многое узнав из книг, я ничего не смыслила в науке куда более важной — в жизни!
Вооружив свой ум и сохранив наивную душу, я была куда более уязвима для жизненных злоключений, чем мои подруги — не такие ученые, как я, но гораздо лучше осведомленные. Возвращаясь в лоно своих семей, они вновь обретали родителей, сестер, братьев, друзей — целый мир, примеры и речи которого просвещали их на предмет каждодневной реальности лучше, чем целая библиотека греческих и латинских рукописей!
У меня же все было иначе. Я была сиротой, взятой на иждивение братом матери, каноником собора Пресвятой Девы. И я покинула монастырь лишь затем, чтобы перебраться под почти монашеский кров дяди. Едва слышный, приглушенный городской шум совершенно не тревожил этот мирный уголок. Так, взращенная в неведении, исполненная самоуверенности и книжных мыслей, с горячей головой и холодным сердцем, я вступала на берега своей молодости.
Позже, вспоминая о тех первых годах, я удивлялась, что за все время, проведенное в Аржантейе, ничто не воспламенилось во мне любовью к Богу. Ты знаешь пылкость, с какой я всецело отдаюсь предмету своего поклонения. Как могла моя душа оставаться спящей, когда нам каждый день читали вдохновенные жизнеописания святых и всем было известно, что помощница настоятельницы исполнена благодати? Коль скоро я была создана для абсолютной любви, то должна была отдать себя Господу.
Однако ни откровение, ни порыв не подтолкнули меня к служению Богу. Бодрствовал лишь мой разум. Сердце, тело и душа жили словно в полусне.
Это привело меня к мысли, что провидение уготовило мне иное будущее! Сама того не ведая, я ждала тебя. Для тебя, которого еще не знала, я сберегала нежность и благоговение, чтобы принести их тебе в безраздельный дар, когда придет час. И час близился…
Не зная о том, в трудах и добродетели я жила у своего дяди Фюльбера. Помнишь его дом? Из побеленного кирпича, с островерхой крышей, он стоял близ собора. Мне нравился этот отгороженный от Парижа уголок, отведенный каноникам и их семьям. Это был настоящий городок, окруженный стеной с четырьмя воротами, и я чувствовала себя как дома на его улочках, где к каждому жилищу примыкал собственный сад. Наш сад спускался к Сене и изобиловал грушами, сливами и орехами, которые, сообразно времени года, я собирала с ветвей. Там же росли цветы и овощи, и я могла рвать, что хотела: розы и шпинат, гвоздики, шалфей и базилик.
Аромат этого утраченного мной уголка не походил ни на какой другой. Много позже, уже в Параклете, я напрасно пыталась вновь обрести благоухание своей юности среди трав, велев посеять их в огороде.
В этом мирном уголке я жила без забот, и все мне было развлечением. У моих ног, оживляемая непрерывным движением лодок, текла река, которая занимала меня долгими часами. Из своего окна я смотрела поверх листвы на суету совсем близкого порта Сен-Ландри, где сновали туда-сюда барки и лодки, груженные тысячью разных товаров.
Когда я бывала в Париже, меня зачаровывали кишащие народом улицы. Вместе со своей служанкой Сибиллой — ты ее знал — я в первую очередь обходила окрестности школы Нотр-Дам, где школяры и клирики из разных стран окликали друг друга на множестве иностранных наречий. Там поразил меня однажды звук твоего имени. Без конца повторяемое, оно вскоре стало привычным для моего слуха. Кто только не говорил о тебе в этой ученой толпе! Твоя известность простиралась далеко за наши пределы, и считалось неслыханной удачей попасть в число тех, кто был допущен тебя слушать.
Но для меня ты был тогда лишь знаменитым философом, вызывавшим всеобщее восхищение мэтром, но еще не Единственным, одним-единственным мужчиной, достойным любви. Твоя мысль еще не захватила меня настолько, чтобы мир вокруг в моих глазах лишился притягательности, и потому всякий раз, как представлялся случай, я бродила по городу в поисках новых зрелищ.
Из конца в конец проходила я со своей служанкой весь город, почти целиком заключенный на острове, — от королевского дворца ниже по течению, с его садом и королевскими шпалерами, до церковного квартала в верхней части, где мы жили. Я охотно задерживалась в лавочках на улице Вьей-Жюиври, рядом с синагогой, где разглядывала привезенные из Персии ткани, пробовала восточные пряности, где знакомый старик-ювелир позволял мне примерять соблазнявшие меня безделушки. Устав бродить, я увлекала Сибиллу в первую встреченную часовню, и мы, помолившись мгновение бок о бок в запахе ладана и воска, вновь ныряли в тесноту узких улиц. Кого только не было в этой толчее: жонглеры, водившие за собой ученых зверей и потешавшие меня своим краснобайством; погонщики, гнавшие перед собой перепуганных быков, — успевай уворачиваться! Нищие — кто слепой, кто хромой; носильщики, по любому пустяку готовые схлестнуться с грузчиками; водоносы с ведрами на коромысле; торговцы сладостями — у них я покупала вафли; разносчики, всегда умевшие расхвалить свой товар и вытянуть из моего кошелька хоть пару монет. Паломники в широкополых шляпах с раковиной вместо украшения и с посохом; босоногие монахи в грубошерстяных рясах; всадники, везшие порой за спиной своих красоток; вечно спешащие герольды; дамы в носилках — их лица я пыталась разглядеть за опущенными занавесками; врачи с важными лицами, верхом на мулах; торговцы с королевских виноделен, чуть ли не насильно предлагавшие попробовать вино последнего урожая.
Никогда не истощавшееся любопытство влекло меня к лавкам ткачей, когда мне хотелось новый плащ; к торговцам галантерейным товаром, где я могла найти прекраснейшие восточные шелка; в лавки скорняков, ибо мне всегда нравился мягкий, греющий тело мех. Я останавливалась возле шляпников и продавцов изящных цветочных венков, возле рисовальщиков и граверов, за работой которых с восхищением наблюдала. Надолго задерживалась я перед стрекочущими клетками птицеловов, откуда бил фонтан красок и лилось диковинное пение. Я останавливалась перед лотками торговцев мисками или четками, кошельками и табличками для письма — их я потребляла в большом количестве. Все, вплоть до толедских клинков, привлекало мое внимание.
Когда колокола в Сен-Мерри или Сент-Оппортюн звонили к вечерне, лавочки закрывались, и я, усталая, возвращалась домой без единого гроша в кошельке. Что мне было до того? Чтобы получить еще, мне довольно было попросить. Я считала себя счастливой и, в конечном счете, несомненно таковой и была.
Позже ты открыл мне порыв и опьянение страсти, ее жар и блаженство. Но никогда уже мне не было дано испытать то тихое счастье, довольствовавшееся вкусом плода или покупкой пояса из золотых колечек. Не думаю, впрочем, что я была создана для такого рода мирных удовольствий. Скоро они бы мне наскучили. Во мне, — хотя сама я этого не ведала, — уже тихо звучали иные призывы…