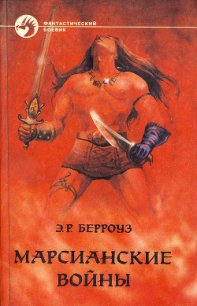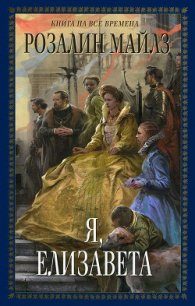Беллона - Майлз Розалин (книга бесплатный формат .txt) 📗
Итак, Вильгельм Молчаливый умолк навеки.
Чтоб его убийце гореть в аду — и королю, который его подослал?
Я закрыла глаза, сползла на пол и попыталась молиться. Я слышала, как хрустят бедные старые колени Берли, когда тот преклонил их рядом со мной.
О, Боже, взывало сердце, это ли Твоя воля? За что Ты караешь Твоих новых святых, святых Реформации, таких, как Вильгельм, кто из последних сил бьется явить миру Твой свет?
Мы, конечно, знали, как изощрялся Филипп в своем ненасытном стремлении погубить Вильгельма. Отважный голландец по меньшей мере шесть раз избежал яда, ножа и пули, однажды был ранен в руку, другой раз — в челюсть, с тех пор и стал для всего мира Молчаливым.
Я слышала, как Берли тихо возносит молитву:
— Per lesum Christum Dominum nostrum, Amen.
И знала, что он, как и я, молит: «Боже, да минует нас чаша сия…»
Ибо то была горькая чаша, полная полыни и желчи. Обезглавленные Нидерланды, словно курица с отрубленной головой, метались в поисках нового вождя. Претендентов было немного. Почему же меня так изумил их выбор?
— Что? Вы предлагаете править Нидерландами мне?!
Я ужаснулась. Важные, облаченные в серое бюргеры из Голландии, Зеландии и Утрехта, крепкие, как их дамбы, откланялись возмущенные и униженные, придется их теперь ублажать лаской и лестью, застольем и звонкой монетой.
Я не могла принять трон Нидерландов — хватало дел и у себя в королевстве! Но Штаты, лишенные вождя, не устоят перед Испанией и года.
— Их надо крепче привязать к нам, — убеждал мой кузен Говард, сын моего старого двоюродного деда, лорда-адмирала. — Пошлите лучшего и знатнейшего, достойного вас!
Глаза у Чарльза были теперь, как у отца, умные, нервы крепче, он понимал Англию. Конечно, он прав. Я уже сама это решила. Послать достойного? Кто и сейчас достойнее Робина?
Перед отплытием он пришел приложиться к руке, с ног до головы сверкая парадными доспехами — ему предстояло быть не только моим наместником, но и моим воителем. По моему приказу на проводы собрался весь двор. Когда он уходил, великолепный, в сопровождении племянника Филиппа Сидни и пасынка Эссекса (свет, что ли, такой в конце ноября? — или глаза устали? — зрение притупляется, разве я так, раньше видела? — или я невольно сравниваю его с юным Эссексом — не мальчиком, но, как ни глянь, юношей, высоким, многообещающим), — только я вдруг спросила себя: «Кто этот незнакомец? Когда это у Робина исчезла талия, а волосы поредели, когда увяла кожа? Откуда бралась та божественная поступь, этот ли человек некогда оседлал, пришпорил и объездил мое сердце?»
Рели, тонкий, гибкий, смеясь, как смеются до тридцати, беззаботно махнул музыкантам и подскочил ко мне:
— Музыка ждет. Вашему Величеству угодно танцевать?
Черные кудряшки блестят, глаза уже пляшут, тугое молодое тело пахнет лимоном и лавандой…
Да, Моему Величеству угодно…
Я танцевала, и он танцевал, я перебирала струны, он сочинял стихи, я была очарована, ибо мой Рели умел песней подманивать птиц.
Я назначила его капитаном своей гвардии, пожаловала прекрасными владениями и рентами, а он платил мне своей любовью.
Я набрасывалась на нее с жадностью, так я изголодалась. Я была в тревоге, в гневе, не в себе.
— Вашему Величеству недостает лорда Лестера, — шепнула Кэт Кэри, убирая мои волосы.
О Господи, да! И недостает его именно таким, каким он был! Мне недостает того Робина!
Как нужен мне был Рели, когда пришли первые сообщения из Нидерландов. «Ваш вице-король держит поистине королевский двор, он окружил себя всяческим великолепием», — наивно докладывали мне.
— Что? — взорвалась я. — Мы выколачиваем деньги, сто, двести, триста тысяч фунтов, а он держит двор? — Я обратилась к письму: «И вскоре, как мы слышали, прелестная вице-королева прибудет разделить его труды и заботы…»
Жгучая досада пронзила меня в самое сердце.
Он послал за ней! Они будут изображать короля и королеву — на мои денежки!
Я с силой запустила в стену бокал, он разбился вдребезги.
— Вернуть его! — воззвала я к Берли. — Отобрать все титулы, швырнуть вместе с волчицей Леттис в ближайшую тюрьму!
— Нет, Ваше Величество, — успокаивал Берли.
«Леди, пощадите, — молил Робин в письмах. — Ежели Вы недовольны, она не приедет!»
«Вы больше не вице-король!» — посылала я с самым скорым гонцом.
«Тогда позвольте мне остаться последним из Ваших слуг! — доставляли мне еще быстрее его пресмыкательства. — Оставьте здесь Вашим конюхом, чистить лошадиные копыта…»
Пришлось оставить его, надо было сдерживать испанцев. А мне пришлось простить.
«Роб, — писала я в слезах, пресмыкаясь не хуже его, — летнее полнолуние помутило мой разум, я не владела собой. В мечтах я продолжаю беседовать с тобой и шлю печальное „прости“ моим всевидящим очам, что бдят ради меня. Да хранит тебя Господь от всякого зла, да спасает от всех врагов. Прими миллион благодарностей за труды и заботы. Всегда та же, ER».
Да поможет мне Бог…
Но у меня оставался Рели!
Не назло ли Робину (я знала, как он будет досадовать, когда летучая молва достигнет Европы) пожаловала я Рели богатую винную монополию, подарила городской дом, произвела в рыцари? Мой новый сэр Уолтер рыдал у моих ног и клялся, что откроет для меня новые земли и назовет их «Виргиния» — земля девственницы. Дурацкая юношеская похвальба, но и она меня утешала.
Я отчаянно нуждалась и в юности, и в утешении — старость и даже худшее внезапно постигли почти всех, кто был мне близок. Из Франции сообщили, что мой Лягушонок, моя последняя любовь, герцог Анжуйский, скончался от удара, и я его оплакала. Даже Хаттон выглядел на сорок, а Робин, Господи помилуй, ведь он мой ровесник, моих лет — ему тоже полета! — которых при мне и шепотом назвать не смели, но которые рифмовались со всем, что угнетало меня в это тяжкое время: «казна пуста» и «на уме суета».
Полета!
Ненавижу!
И хватит об этом!
— Парри, убери эту жуткую штуку, она живая, глянь, трясется, как кабаний зад!
Яростно обмахиваясь, я глядела в зеркало. Заботливые руки копались в рыжих кудрях — там поддернут, тут расправят.
— Мадам, перрюке — самое роскошное, что носят леди во Франции…
— Чтоб тебе, Парри!.. Не перечь, называй вещи своими именами, эта штука — парик! Мне, по-твоему, нужен парик?
А если и так, немудрено, после всех пережитых скорбей, таких, что и долготерпеливый Иов принялся бы рвать на себе волосы! Но ведь этот зуд кое-где под волосами, конечно, пройдет с весной?
— Просто улучшенные накладки из волос, мадам, мы ими пользовались и раньше, чтоб немножко подправить природу… как только девушка закончит с притираниями и нанесет румяна…
— Слишком много!
Слишком много всего — нависшая копна рыжих завитушек, кармин и кошениль на щеках, под ними белый свинец и бура поверх персиковой пудры, шеллак и гуммиарабик… — но главное, слишком много надо скрывать, слишком много морщин, слишком много прожитых лет!
Мне недоставало Робина, я жаждала его возвращения, ибо в зеркалах его глаз я не видела своих лет. И месяца не прошло, как мне грубо напомнили, как меня ненавидят, как враги мои, исполненные злобы и зависти, выжидают и строят бесконечные козни.
Однажды, когда я одевалась для присутствия, из прихожей донесся странный шум, а затем гневные крики моих лордов.
— Проклятие, как ее от такого защитить? — сердито и громко возмущался Оксфорд. — Ее Величество не может всякий раз выходить на люди в кирасе! Что она, Боадицея, что ли, королева-воительница?
Голос Уолсингема звучал не меньшей страстью:
— Придется стать!
Отшвырнув фрейлин, я бросилась к дверям:
— Что стряслось?
Ко мне повернулись десять, пятнадцать бледных лиц — горстка моих лордов, стражники…
— Как это вы не можете меня защитить?