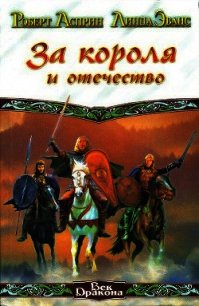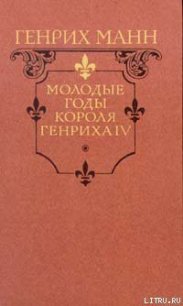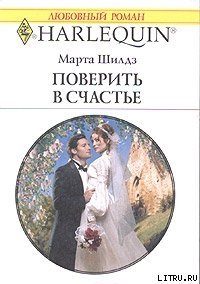Графиня Рудольштадт - Санд Жорж (читать книги онлайн без сокращений txt) 📗
Он говорил еще долго, и поэма его будущего была столь же великолепна, как и поэма прошлого. Я не стану пытаться воспроизвести ее здесь: я бы только испортил ее, ибо надо быть самому охваченным огнем вдохновения, чтобы передать то, что оно породило. Возможно, мне понадобятся два или три года, чтобы правильно записать то, что нам рассказал Трисмегист за два или три часа. Дело жизни Сократа породило дело жизни Платона, а дело жизни Иисуса было делом семнадцати веков. Вы видите, что я, жалкий и недостойный, не могу не трепетать при мысли о моей задаче. И все-таки я не отказываюсь от нее. Учителя же нисколько не смущает мое изложение — в том виде, в каком я предполагаю его сделать. Он человек действия и уже составил резюме, которое, по его мнению, кратко излагает всю доктрину Трисмегиста, и притом с такой ясностью и четкостью, как если бы он занимался ее толкованием всю свою жизнь. Словно при посредстве электрического тока, ум и душа этого философа как бы перешли в его существо. Спартак обладает его душой, распоряжается ею, как хозяин; она послужит ему, как политическому деятелю; он явится как бы живым и непосредственным ее носителем, а не запоздалым и мертвым переписчиком, каким собираюсь сделаться я сам. И до того, как труд мой будет завершен, учитель уже передаст доктрину своим ученикам. Да, быть может, не пройдет и двух лет, как необычная и загадочная речь, прозвучавшая в этих пустынных краях, пустит корни среди многочисленных последователей, и мы увидим, как обширный подземный мир тайных обществ, ныне действующий во мраке, объединится вокруг одной-единственной доктрины, получит новую совокупность законов и вновь начнет действовать, приобщившись к смыслу речей самой жизни. Итак, мы преподносим вам этот столь желанный памятник, подтверждающий предвидения Спартака, освящающий истины, уже ранее завоеванные им, и расширяющие его горизонт всей мощью ниспосланной ему веры. В то время как Трисмегист говорил, а я жадно слушал, боясь проронить хоть одно слово его речи, звучавшей для меня как торжественная музыка, Спартак, который, несмотря на возбуждение, лучше владел собой, с горящими глазами, весь превратившись в слух, но еще более чутко прислушиваясь умом, твердой рукой чертил на своих табличках какие-то значки и фигуры, словно метафизические идеи доктрины представлялись ему в виде геометрических формул. Когда в тот же вечер он занялся этими странными записями, совершенно мне непонятными, я был поражен, увидев, что, пользуясь ими, он записывает и с невероятной точностью приводит в порядок выводы поэтической логики философа. Словно по волшебству все упростилось и оказалось кратко изложено в таинственном перегонном кубе практического ума нашего учителя . Однако он все еще не был удовлетворен. Вдохновение явно покидало Трисмегиста. Глаза его потеряли блеск, плечи опустились, и Цыганка знаком попросила больше не задавать ему вопросов. Но неотступный в поисках истины, Спартак не послушался ее и опять начал настойчиво расспрашивать поэта.
— Ты описал мне царство божие на земле, — сказал он, сжимая его похолодевшую руку, — но Иисус сказал: «Царство мое еще не пришло». Вот уже семнадцать столетий человечество тщетно ждет исполнения его обещаний. Я не поднялся на ту высоту созерцания вечности, на какую поднялся ты. Время предоставляет тебе, словно самому богу, зрелище — или, может быть, идею — непрерывной деятельности, каждая фаза которой соответствует каждому часу твоего восторженного чувства. Но я живу ближе к земле и веду счет столетиям и годам. Я хочу научиться читать в книге собственной жизни. Скажи мне, пророк, что я должен делать в той фазе, в какой меня видишь ты, какое действие окажут твои речи на меня, а через меня — на тот век, который грядет. Я не хочу прожить в нем бесплодно.
— Так ли уж важно для тебя то, что я могу знать об этом? — ответил поэт. — Никто не живет бесплодно, ничто не пропадает даром. Никто из нас не бесполезен. Не мешай мне отвращать взгляд от этих мелочей — они омрачают сердце и суживают границы разума. Я изнемогаю, думая об этом.
— Ты, открывший мне тайны, не имеешь права поддаваться изнеможению, — решительно возразил Спартак, силясь влить огонь своего взгляда в уже затуманенный и меланхолический взор поэта. — Если ты отвернешься от зрелища человеческих бедствий, значит, ты не настоящий человек, не тот совершенный человек, о котором один из древних сказал: Homo sum et nihil humani a me alienum puto . Нет, ты не любишь людей, ты не брат им, если не сочувствуешь их ежечасным страданиям и не спешишь найти средство, чтобы помочь им, претворив в жизнь твой идеал. Несчастен тот артист, который не чувствует лихорадки, готовой сжечь его в этих поисках, страшных, но доставляющих наслаждение!
— Чего же ты хочешь? — спросил поэт, тоже взволнованный и почти рассерженный. — Уж не считаешь ли ты себя единственным работником и не думаешь ли, что я приписываю себе честь быть единственным вдохновителем? Я отнюдь не кудесник. Я презираю лжепророков и достаточно долго боролся с ними. Мои предсказания — это умозаключения; мои видения — восприятия, обостренные до предела. Поэт не колдун. Его грезы основаны на уверенности, в то время как колдун выдумывает наудачу. Я верю в твое начинание, ибо ощущаю твою мощь. Я верю в возвышенность моих мечтаний, ибо чувствую, что я способен породить их и что человечество достаточно значительно, достаточно благородно, чтобы общими силами осуществить во сто раз больше, чем мог придумать в одиночестве один человек.
— Так вот, — ответил Спартак, — именно о судьбах человечества я и спрашиваю тебя во имя того человечества, которое бурлит и во мне и которое я ношу в себе с еще большей тревогой и, быть может, даже с большей любовью, чем ты сам. Дымка пленительных грез скрывает от тебя его страдания, а я прикасаюсь к ним, дрожа, каждый час моей жизни. Я жажду облегчить их и, словно врач у изголовья умирающего друга, готов скорее убить его собственной неосторожностью, нежели допустить, чтобы он умер, так и не попытавшись ему помочь. Ты видишь — я опасный человек, быть может, даже чудовище, если ты не сделаешь из меня святого. Исполнись же тревогой за человечество — оно погибнет, если ты не вложишь лекарство в руку мечтателя! Оно, это человечество, грезит, поет и молится в твоем лице. В моем же оно страдает, кричит и стенает. Ты открыл мне свое будущее, но, что бы ты ни говорил, оно еще далеко, и мне придется вынести немало мучений, чтобы извлечь для кровоточащих ран несколько капель твоего бальзама. Целые поколения томятся и уходят, так и не узнав света и бездействуя. Я воплощение страждущего человечества, я крик бедствия и воля к спасению, я хочу знать, какой будет моя деятельность — пагубной или благотворной. Ты не до такой степени отвратил свой взгляд от зла, чтобы не знать о его существовании. Куда бежать сначала? Что делать завтра? Как победить врагов добра — кротостью или насилием? Вспомни милых твоему сердцу таборитов. Прежде чем вступить в земной рай, им пришлось перейти через море крови и слез. Я не считаю тебя кудесником, но вижу в тебе могучую логику и великолепную ясность ума, которая просвечивает сквозь твои символы. Если ты можешь столь уверенно предсказывать самое отдаленное будущее, то с еще большей уверенностью можешь проникнуть сквозь туманную завесу, загораживающую доступ моему зрению.
Поэт, очевидно, испытывал невыразимые страдания. Его лоб был влажен от пота. Он смотрел на Спартака то с ужасом, то с восхищением; жестокая борьба происходила в его душе. Жена в отчаянии обвила его руками, и в ее взгляде на моего учителя можно было прочитать немой укор, но также и почтительный страх. Никогда еще я не ощущал так сильно, как в эту минуту, могущество Спартака, который силою своей фанатической воли, прямоты и правды преодолевал муки этого пророка, борющегося с вдохновением, боль этой умоляющей женщины, ужас их детей и упреки собственного сердца. Я и сам трепетал, находя моего учителя жестоким. Я опасался, как бы прекрасное сердце поэта не разбилось в последнем усилии, а слезы, блиставшие на черных ресницах Консуэло, падали горячими и жгучими каплями прямо в мое сердце. Внезапно Трисмегист встал. Знаком отстранив Спартака и Цыганку, приказав детям отойти в сторону, он вдруг преобразился. Взор его, казалось, читал в невидимой, необъятной, как мир, книге, начертанной огненными письменами на своде неба.