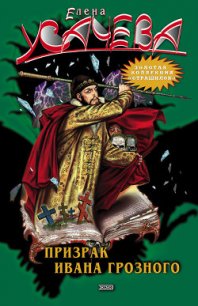Гарем Ивана Грозного - Арсеньева Елена (читать книги регистрация .TXT) 📗
В беспамятстве он хотя бы не мучился от жажды! Да, ему почти не давали пить, ведь Бомелий был лютый волхв и чародей, а русские верили, что чародеи могут уйти из тюрьмы с помощью самого малого количества воды и нарисованной на стенке лодки, поэтому их истомляли жаждою.
Жажда и боль… Казалось, невозможно вынести столько боли, сколько вынес он, однако в его обожженном, обугленном, изломанном, растянутом на дыбе, окровавленном теле еще жил фанатично-стойкий дух истинного сына Игнатия Лойолы. Именно этот дух не давал Бомелию проклясть себя за то, что не выпил еще там, во Пскове, на Немецком торговом дворе, яд, который был у него припасен именно для такого случая. Самоубийство – смертный грех, и сколь ни были циничны игнатианцы во всем остальном, снисходительно позволяя себе и красть, и лгать, и убивать, и прелюбодействовать, и, само собой разумеется, искушать малых сих, – наложить на себя руки они не могли. Поэтому Бомелию приходилось смиренно ожидать смерти, изредка раздвигая синие, вспухшие, налитые гноем и сукровицею губы и шевеля пересохшим языком, чтобы не думая ответить на какой-нибудь очередной вопрос – и обречь на смерть очередного русского князя, воеводу, опричника… какая ему была разница?!
Однако тот же непреклонный дух накрепко замыкал его уста, когда речь заходила о Борисе Годунове. Чего греха таить – царевич Иван Иванович, ревновавший отца ко всем его любимцам, втихомолку ненавидел заносчивого, лукавого Годунова, который так и норовил обойти сына перед отцом, и ничего не имел бы против того, чтобы увидеть эту гордую голову отрубленной. Однако Бомелий молчал, молчал, молчал…
Нет, вовсе не добрые чувства к молодому выскочке пробуждали упорство и мужество дохтура Елисея. Он ни звуком не обмолвился бы о Годунове, даже если бы доподлинно узнал, кто именно расставил ему сети, кто обрек на нечеловеческие страдания. Бомелий, звездочтец, звездоволхвователь и провидец, на собственном горьком опыте убедившийся, что светила небесные никогда не лгут, надеялся, что они сказали правду, и пророча участь Годунова. Ведь самонадеянному Бориске предстояло через четверть века не только воссесть на русском престоле, но и грешным беззаконием своим ввергнуть Русь в пучину таких бедствий, такой кровавой смуты, от которой эта страна, как истово надеялся Элизиус Бомелиус, не оправится уже никогда.
С этой несбыточной, безумной, постыдной надеждой он и вручил наконец душу своему немилосердному, лукавому иезуитскому Богу.
Проклятые ляхи опять показали русским свою подлую рожу! Пришло известие о выборе нового польского короля. Им сделался Стефан Баторий, седмиградский князь. Никому не известное имя вдруг заблистало, затмив и Эрнеста, сына австрийского императора Максимилиана, и короля шведского, и Альфонса, князя моденского, и Федора Иоанновича, и, конечно, его отца, царя московского.
Годунов испугался, что государя хватит карачун, когда он услышал о Батории.
– Да ведь теперь Польша признала свою зависимость от турецкого султана! – воскликнул Иван Васильевич в первую минуту. – Выбрать Батория – это все равно что поклониться в ножки Селиму! Как можно позволить турку настолько обнаглеть, как можно христианам покорно склонить выи пред нечестивцами?! Стыд и позор!
Всем было известно, что сразу после бегства Генриха во Францию султан Селим направил сейму высокомерное послание: если вельможные паны выберут королем принца австрийского Эрнеста, воспитанного в ненависти к Оттоманской Порте, или кого-то из русских, столь же люто настроенных против мусульман, то война и кровопролитие неминуемы. Именно Селим назвал имя Батория, присовокупив, что он знаменит разумом и великодушием, принесет стране счастье и славу, будучи верным другом могущественной Порты. По сути дела, турецкий султан предложил посадить на польский трон заведомого предателя. И шляхтичи, кичливые шляхтичи не устыдились этого предложения: спрятали в карман свой знаменитый польский гонор и признали волю страшнейшего из врагов королевства Польского, выкрикнули на королевство Батория.
Когда стало известно об этом выборе, ливонцы прислали государю смиренное письмишко: они-де необычайно сожалеют, что выбор не пал на молодого царевича Федора, известного мягкостью и кротостью. Вот в ком Ливония с восторгом видела бы своего властелина!
Упоминание о «мягкости и кротости» младшего сына повергло Ивана Васильевича в новый приступ ярости. Федор частенько напоминал государю младшего покойного брата, князя Юрия Васильевича, поскольку был слаб как телом, так и разумом. Ни о каком самостоятельном правлении Федора где бы то ни было, даже в пределах его собственной опочивальни, и речи идти не могло! Выставляя сына претендентом на польский престол, Иван Васильевич искал одного: расширения границ Русского государства. Настоящим правителем был бы он сам! Конечно, ливонцы это понимали – не последние ведь дураки! – и их послание показалось царю скрытно-издевательским и изощренно-подленьким. Если он не мог прямо сейчас свести счеты с Баторием, захапавшим то, что Иван Васильевич, проникнутый исконно русским презрением к ляхам, считал по праву своим, то уж ливонцам он мог показать их место! А заодно пора было указать на то же место и полякам, и шведам, твердо наступив на их владения на ливонской земле. Время было благоприятным: король шведский был занят тем, что, в угоду своей жене и иезуитам, вводил римскую веру в своем государстве, которое противилось этому всеми силами; Баторий же воевал в Пруссии.
Иван Васильевич спешно строил рать и готовился окончательно решить судьбу Ливонии.
За хлопотами он снова переселился из Александровой слободы в Москву, из которой было удобнее выезжать и на Оку, и в Калугу, где собирались полки. Годунов тоже бывал в столице редко, мотаясь вслед за государем, как нитка за иголкой; где мог, старался забежать вперед Бельского, однако это плохо получалось. Похоже было, со смертью Бомелия Борис ничего не приобрел, а даже лишился многого. Он-то надеялся продвинуться на ступеньку выше, перехватив то влияние, которое хитромудрый лекарь имел на царя, но жестоко просчитался. Царь заметно охладел к бывшему любимцу, столь немилосердно разбившему его заблуждения, и все чаще Борис ломал голову не над тем, как бы возвыситься, – опасался, не рухнуть бы вообще в безвестность!
Порою он с тоскливой усмешкой вспоминал, какие строил расчеты на Анхен, как намеревался воспользоваться тем, что новая царица – его ставленница, которая из благодарности будет делать то, что пожелает возвысивший ее человек. Черта с два!
Анхен не сомневалась, что своим возвышением она обязана только самой себе, и решительно не желала испытывать к Борису даже подобия благодарности. Смешно сказать, однако с той памятной ночи, ставшей роковой для Анны Алексеевны Колтовской, они даже ни разу не виделись, хотя прошло уже несколько месяцев. Анхен по-прежнему обитала на царицыной половине и делила с государем ложе, однако Годунов никак не мог понять, какие чувства, кроме обыкновенной плотской тяги, привязывают государя к пронырливой рыжухе. Поскольку она была в этом мире одна, как перст, никакая родня ее не могла возникнуть при дворе, требуя наград и кормлений. Спасибо и на этом! Впрочем, эта девчонка вряд ли стала бы радеть даже и за самого близкого человека, даже за отца родного. Поэтому Годунов постепенно примирялся с мыслями о том, что его грандиозная каверза обернулась семипудовым пшиком, и все чаще обращал задумчивые взоры в сторону своей сестры Ирины.
Только мысли о ней укрепляли Годунова в уверенности, что его судьба еще не начала клониться к закату, что солнце его удачи всего лишь заволокло малым облачком, но вот подует благоприятный ветерок – и снесет это облачко, и снова засияет Борис Годунов на дворцовом небосклоне, может быть, даже ярче прежнего!
Еще готовя сына своего Федора на польский престол и уныло сравнивая его с покойным князем Юрием Васильевичем, государь все чаще вспоминал о том влиянии, которое имела на убогого братца его жена. Образ Юлиании свято хранился в глубинах царева сердца. Вот если бы отыскать такую же мудрую, терпеливую, преданную супругу для Федора! Может быть, вся жизнь его, весь нрав его изменился бы. Жена – сила великая, что бы там ни брюзжали увенчанные клобуками черноризцы. В ней причудливо сплетены и благо, и пагуба. Это уж как повезет! Вон, царевичу Ивану не везло. Женился вторично на этой, как ее… Иван Васильевич пощелкал пальцами, вспоминая (невестку он видел так редко, что не помнил ни лица ее, ни имени)… ах да, на дочери Петрова-Солового, Прасковье, но и с ней не обрел ни чада, ни покоя, ни счастья. По всему видно, быть Прасковье вскоре постриженной, как и Евдокии Сабуровой, первой жене Иванушки. Но он силен нравом и духом, он выдюжит, его бабьими причудами не сломаешь. А Федор должен с первого раза сделать правильный выбор и обрести в супруге не вертихвостку-мучительницу, наказанье Господне, а жену-мать, жену-сестру, жену-наставницу. И при этом она должна быть красавица – на какую попало, будь она хоть семи пядей во лбу, Федор и глядеть-то не станет!
![Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного] - Арсеньева Елена (читать книги без .txt) 📗](/uploads/posts/books/55452/55452.jpg)