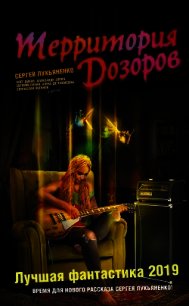Мю Цефея. Только для взрослых - Давыдова Александра (читать бесплатно полные книги .TXT) 📗
К вечеру добрались до Лайошева урочища. Лайош, будто зная, что явятся гости, встречал их у пограничного камня, одетый в чистую рубаху, волосы причесаны, борода заплетена в косы. Пчел его, вопреки обыкновению, рядом не было. Лайош без них показался вдруг беззащитным и маленьким — несмотря на те же четыре альна роста. Рука кмета сама собою легла на черен сабли.
Стояли у камня, смотрели друг на друга. Молчали. Лайош — тот всегда молчал, а кмет и сказал бы, да не находил слов. Мужики за его спиною были непривычно тихи, не сыпали прибаутками, не кряхтели и не дышали. Замерло всё — даже воздух. Залети сюда шальная искра — вспыхнет черным пламенем.
И тут появилась Радка. Роста она была маленького — вертлявая вздорная девчонка. Появилась — и разбила молчание болтовней своей неуемной, хохотом своим, движениями — щедрыми. Каялась, что ушла без спроса, всплескивала руками — как там мать, отца обнимала, ладони ему целовала и всё рассказывала, рассказывала. Нет ей счастья без Лайоша, и такой он хороший, и мужем будет славным, а там и детки пойдут.
Возвращаться домой отказалась наотрез.
Придирчиво изучила отцовы дары, анисовую решительно вернула, остальное взяла.
Попрощались тепло.
Кмет, смирившись с потерей дочки (было у него их еще две на выданье) и успокоив жену, мысленно подсчитывал прибыль. Зять-медовар — это не случайные подношения от горного духа, к каким привыкли медвенские. Это можно наладить целое производство.
А на третье утро в Медвен пришел Лайош.
Утро было ясное, но с Лайошем вместе с гор спустился туман. Окутывал плащом его могучие плечи и стелился дальше по земле, выбрасывая щупальца во все стороны. Лайош был грязен и клонился к земле. Не от груза, который нес на руках, — Радка и при жизни была крохотная, а в смерти потеряла, кажется, половину; клонился от груза на душе.
Он положил ее на землю — нежно положил, точно спит она, а не мертва. Радку не узнать было — черная, опухшая. После разбирались, приезжал пристав из Олмуца, привез с собой прозектора — занудного аккуратиста. Тот насчитал на теле Радки тысячу триста семнадцать укусов. Пчелы. Так он сказал. И еще добавил какие-то мудреные слова, но их уже никто не слушал. Пчелы, шумел Медвен. Пчелы.
Но в тот миг, когда Лайош положил Радкино тело у колодца, никто не думал про пчел. О них и вовсе не вспомнили — не было их. До поры.
Лайош отошел на несколько шагов. Встал на колени, опустил голову и молча ждал.
Говорят, первый камень бросила жена кмета. Говорят, бросали все медвенцы — от ребенка до древней старухи. Это неправда. Камней не бросал никто.
Кметова жена лежала рядом с мертвой дочкой, обняв ее и шепча ей на ухо колыбельную. Долго лежала, не отпускала, четверо мужчин едва оттащили ее. Остальные медвенцы стояли без движения, не способные еще ни осознать, ни понять произошедшего. Люди стояли и смотрели, даже кмет стоял — босой, без штанов, в одной только ночной рубахе. Они стояли, а Лайош ждал. И сказал бы им, чего ждет, только давно разучился говорить.
Камни полетели сами. Вырванные нечеловеческой волей из-под ног медвенцев, летели метко, били Лайоша в грудь, в спину, в висок. А он всё не падал, Лайош. Не падал, пока не закончились камни, пока не закончился он сам.
Когда прекратился свист и грохот и улеглась пыль, не осталось ничего от великана, каким при жизни был Лайош. Ни единой косточки. Но, говорят, все камни в Медвене с тех пор красные.
И вот тогда появились пчелы. Рой. Грозная бесформенная туча закрыла собою небо, и наступила тьма.
Никто не побежал. Стояли как один, завороженно следили за хаотическим мерцанием роя.
Ждали смерти. Не дождались.
Налетел порыв ветра — могучий, холодный, как дыхание Нидхёгга, — и пчелы исчезли.
Когда поднялись в Лайошево урочище — с приставом и солдатами, — не нашли там ничего особенного. Горы и горы, лес и лес. Колокольцы в ветках деревьев послушно подпевают ветру. Только на лугу у Лайошевой пещеры обнаружились ошметки ульев, что выглядели так, будто взорвала их изнутри миниатюрная рунная бомба (таких бомб тогда еще не было, двадцать лет до второй Мёренской, но это же просто сравнение, верно?). Пристав, знающий уже всю историю со слов медвенских, долго изучал щепки, осколки и трупики пчел, что в изобилии усеяли пасеку; ходил, вымерял что-то шагами, бормотал себе под нос.
Пчелы, сообщил он, были заперты в ульях, но рвались на волю так крепко, что сами эти ульи и разнесли изнутри. Вот ведь как бывает. Так сказал пристав, но в отчет писать этого не стал.
Говорят, пчелиный рой по сей день можно встретить в Олмуцких горах. Носится он, не зная покоя, принимая диковинные формы — то глаз в пустоте неба, то лягушка с совиными крыльями, но чаще — девица, что кружит и кружит в танце с невидимым кавалером.
Еще говорят, со смертью Лайоша умерли и его резные безделицы. Не рассыпались золой, как случается в сказках о шептунских богатствах. Не исчезли. Не изменились внешне. Но все, кого прежде берегли они от кошмаров, спят с тех пор с открытыми глазами — до того страшны их сны.
Перфорация (Ольга Толстова)
Незримые машины, мерно гудя, срывали берег, Бескрайнее море подступало ближе ко Второму городу, дышало за стеной, будто живое, обнимающее мир создание. Маяки островов Ожерелья шарили лучами по лоснящейся темно-синей коже волн.
По ту сторону западного мыса, укрытый матовой тьмой солпанелей и плетеным шатром проводов, вечно погруженный в шорох черной соли, протыкал небо башнями Третий город.
Первый город, плоский как блин, полный людей с загрубевшими ладонями и усталыми спинами, рожающий хлеб и мясо, тихо спал на юго-западе.
Нигде не было никого, кто мог бы спасти меня. Сколько я ни меняла форму слухового хрусталя, не слышалось ни отзвука, ни шепота, ни даже последнего «прости».
—
Я вычислила ее сразу. Караван приближался: дровиши топали ужасно, сотрясая мощными копытами землю, дребезжали платформы, кричали, болтали, кряхтели люди, а мой взгляд метался в поисках того, что заставляло слуховой хрусталь пищать. Тонкая тревожная нота, сигнал приближения сородича.
Вычислила, но увидеть не смогла. Она была в одном из контейнеров, сундуков, баулов, сумок. Где-то там, дремлющая, тихая и пока что одинокая. Но она тоже меня слышала. Я в этом не сомневалась.
Я пряталась в тени мусорного переулка, за баком, источающим все отвратительные запахи разом. Щелкал анализатор, определяя, из чего состоит вонь, и вновь заставляя меня радоваться, что я не человек. Знаю, чем тут пахнет, но не обязана это чуять. Могу бродить по всем закоулкам, тупикам, проулкам Второго города, ступать по грязи, не сотрясаясь от омерзения.
Караван проехал по городу, постепенно теряя хвост, платформы разъезжались, кто куда. И я нашла ту, от которой у меня звенело в ушах. С тремя другими она повернула на север и встала на задах дешевого гостевого дома. Недалеко от места, где обитала я, а значит — в самом жалком районе Второго города. Хотя во Втором городе официально нет и быть не может жалких районов.
Я так и не увидела ту, от кого у меня звенело в ушах; было похоже, ее внесли в дом, как груз. Зато разглядела людей: уроженцы Колыбели, некоторые светловолосые и светлокожие, другие похожи на местных, все чуждые мне и непонятные, звучащие и пахнущие непривычно.
Это значило, что и она другая, не как я. Другая.
Собрав ежедневную дань с окрестных мусорных баков, таща мешок больше меня самой, я вернулась домой. В ту комнатушку, до которой мы докатились. Ни я, ни Туллия ни виноваты в этом, просто не сложилось — так я себе повторяла. Но кто-то все-таки был виноват.
Туллия спала. Сжав кулаки, подтянув ноги к животу, скатившись в угол потрепанного комковатого матраса, она тяжело, но мерно дышала, и я смотрела на нее, замерев в своей обычной неподвижности-между-задачами. Мой способ спать, иногда думала я, и так оно и было: ведь в эти минуты простоя часть меня уходила в забытую людьми глубину, в пустоту и чистоту, где я слышала только морские волны… раньше. В последние годы к ним присоединился новый звук, похожий на чавканье грязи под человеческими сапогами. Почему-то он нравился мне даже больше прибоя, были в нем ритм и угроза, и еще я считала, что сама пробралась бы по этой грязи совершенно бесшумно, наслаждаясь ее влажностью и прохладой.