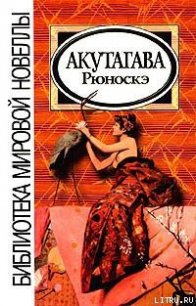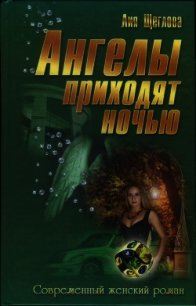Легион Безголовый - Костин Сергей (библиотека книг .TXT) 📗
Благодарю Лидочку взглядом. Более тщательно выразить благодарность не дает Машка. Фыркает на несчастную Лидочку, отправляя ту к тяжелораненым. Сама вытаскивает из мышц застрявшие пули, ловкими щелчками откидывает их в сторону. Раз двадцать щелкает. И откуда в русском прапорщике столько стойкости?
Подползает Садовник. Жалуется на секретаршу Лидочку, которая не желает выдавать ему на переломанную ногу медицинские препараты.
— И правильно делает, — замечает валяющийся лицом к небу капитан Угробов. — В первую очередь раненым, старикам и детям. А вы давно не ребенок. И далеко не пенсионер.
Садовник обижается и отползает к старушке-смотрительнице с целью уговорить ту выпросить у девочки с красной пляжной сумкой на плече хоть небольшой кусок медикамента. Старуха оказывается последней стервой и на весь лагерь называет Садовника подлецом. И даже пытается по лицу ладошкой опозорить.
Машка в целях маскировки засыпает себя снегом. От бурного таяния атмосферных осадков, в результате соприкосновения с разгоряченным телом прапорщика, в воздух поднимается густой пар.
— Мало нас осталось, — сообщает она. Но на просьбу предоставить более точные цифры не отвечает. Машка при отступлении и так слишком много для нас сделала. Считай, меня от смерти и от удушья спасла, да морально подбодрила Угробова и генерала.
Приподнимаюсь на локте и на быструю руку пересчитываю живых. Садовника и старуху в счет не принимаю. Не бойцы, хоть и не обуза.
— Двадцать три человека.
Угробов отворачивается и, уткнувшись лицом в снег, стонет.
Потери огромные, очень огромные. Почти все опера остались там, на хорошо различимом красном пятне городской свалки. Монокль пал смертью храбрых. Две сотни так и не увидавших лазурный берег свободы психически больных положили жизни за счастье всех землян. Не вернулся Пейпиво. Смелые ребята, посвятившие жизнь уходу за душевнобольными, на моих глазах падали на землю и закрывали ее своими ранами. А ведь как все, они дружили со своими девчонками, дарили цветы, иногда и подснежники, и играли им разные патриотические песни на гитарах. И в тот миг, когда падали в белый снег, уверен, они шептали имя тех девчонок.
Вот такая она — война. А еще этот дурак скрипач на своей раздолбанной скрипке с одной струной в палатке медицинской грустную канитель выводит. Аж сердце выворачивается.
К нам, молчащим и скорбящим, присоединяется генерал, с трудом отыскавший свою шинель и папаху. Последнюю, впрочем, надевать не торопится. Кто знает, может, у Охотников снайперов полно, и у них приказ открывать огонь на поражение по каракулевым папахам.
— Вот что, ребята… — Сквозное пулевое ранение в грудь не совсем заросло, так что при разговоре генерал слегка свистит, передразнивая скрипку. — Я тут прикинул, что нужно, к носу и принял самостоятельное решение. Вы, молодые, жить должны. Уходите, пока не поздно. Собирайте людей, организовывайте ополчения. Садовник соврать не даст, по подвалам людей еще полно. И на Большую Землю сообщить надо о ситуации. Теперь, когда известно, как с негодяями бороться, — все по-другому будет.
— Подожди, что значит “уходите”? — недобро прищуривается прапорщик Баобабова. — А вы, товарищ генерал? Как так?
— А так. Просто уходите. Я останусь с пожарными. Они согласны, спрашивал. Прикроем вас брандспойтами. Час не обещаю, но десять минут клянусь. Как раз в домах затеряться успеете.
— Да за такие слова…
— Прапорщик! — стонет Угробов.
Баобабова разом никнет. Генерал, смахивая с усов генеральскую слезу, гладит Машку по бритой голове, оставляя на ней красные разводы. Руки-то помыть не догадался, прежде чем гладить.
— И мне жить хочется. Но я свое отвоевал. Помню, в гражданскую меня комбриг вызвал и говорит…
— Никуда не пойду, — ясно и отчетливо стонет капитан Угробов, и по его голосу становится понятно, что с этого места начальник восьмого отделения не сойдет ни шагу.
— Лесик, что скажешь? Лично мне здесь нравится. Погода благоприятная, не жарко. Да и компания подходящая. А?
А у меня дома мама волнуется. Я как на работу . ушел, так и не позвонил, не предупредил, что задержусь. Что она сейчас там думает? Тревожится, телефоны обрывает? Может, блины напекла, под подушкой лежат, чтобы не остыли. Да только до блинов ли сейчас? Куда идти, куда бежать? Если Охотники не поймают, Машка пристрелит, как предателя и паникера. Она может.
— Остаемся, конечно.
Генерал розовеет лицом. Может, от чувства благодарности, а может, заканчивается действие отравляющих веществ.
— Я так и думал, сынки и дочки. Славно жили, славно и помрем.
— Никто не умрет.
Не знаю, почему говорю заведомо ложные слова. Кто-то тянет меня за язык, заставляет открывать рот, шевелить губами. Это не я, а душа моя несет чушь. Сердце понимает, что все мы смертники, все мы невозвращенцы. И памятник нам никто не поставит, потому что не знает никто, что сражаемся мы, двадцать с лишним человек, на забытой богом и городской администрацией свалке. Пропавшие без вести, вот кто мы.
— Никто не умрет, — повторяю громко, чтобы слышали все. — Жить мы будем долго и счастливо и умрем в один день.
— Но сегодня, — хмыкает Баобабова.
— Дура.
— От дурака слышу.
— Прапорщик, — снова стонет капитан Угробов.
— Не ссорьтесь, товарищи сотрудники, — упрашивает генерал, устав сбивать сосульки с усов.
Сошлись бы мы с Машкой в дружеском поединке или нет — неизвестно. Но в тот момент, когда напарница выкарабкивается из растаявшего сугроба, над штабным холмом взвивается штора. Я хотел сказать — флаг. Безусловно, наш боевой флаг. Садовник, опираясь на здоровую ногу, сомкнувшись плечами со старушкой, держат полощущийся на ветру стяг и, перекрикивая друг друга, предупреждают нас об опасности:
— Там! Там!
Охотники идут в атаку.
Широким полукольцом, охватывая нас с флангов, шагают они молча, чеканя шаг, держа пулеметы, автоматы и другие смешанные типы вооружения перед собой. И нет на их лицах жалости к людям, сгрудившимся вокруг испачканной шторы на
деревянном древке.
— Говорил по-хорошему, уходите! — злится генерал, разрывая в клочья шинель и папаху, чтоб не достались они врагу.
— Не время для стенаний, товарищ генерал, — смело улыбается Баобабова. — Анекдот такой есть. Приходит прапорщик на вещевой склад…
— Подожди, Маша, — прерываю разговорившуюся напарницу. — Товарищ генерал, товарищ капитан, Маша… Вы меня простите, ежели чем обидел.
— Брось, лейтенант, — Угробов горстями кушает снег, словно в последний раз пытается насытиться, — все мы не без греха. Если уж отпускать их, никаких попов не хватит. Делай дело, а не прощение выпрашивай. Командуй, лейтенант, пока случай подворачивается. На это тебе мое благословение даю.
Генерал, окончательно испортив носильные вещи, одобрительно кивает. Он тоже не имеет ничего против того, чтобы командовал сотрудник из секретного отдела “Подозрительной информации”. Помнит еще, что молодым у нас дорога, старикам — лучшие места в общественном транспорте.
— Сюда! Все сюда! — Ребята из сопротивления и остатки партизанского отряда собираются вокруг нашего знамени. В тесный кружок, внутри которого Садовник со старушкой смотрительницей, несколько раненых и секретарша Лидочка, скармливающая остатки целебной ваты особо недолечившимся. — Приказ один, товарищи граждане, — стоять до последнего. Смерть одного — трагедия. Смерть двадцати таких, как мы, — история. Так сделаем же историю.
— Жаль, водки нет, — уже не стонет капитан Угробов. — Выжрали, пока в засаде сидели.
Локоть к локтю, кисточка к кисточке. Ведра с краской наготове. Лица сосредоточены, но в себе уверены. Конечно, страшно, но в толпе страх теряется, растворяется и превращается в бесшабашность.
— Лейтенант, а мы в психическую атаку пойдем? — спрашивает бывший пациент клиники, законченный псих со стажем. — Мужики просят.
Пожарные, расстреляв последние запасы краски, отходят к нам. Принимают из рук товарищей кисти. Теперь мы один на один с беспощадным врагом.