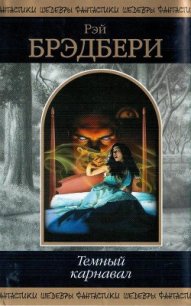О скитаньях вечных и о Земле (сборник) - Брэдбери Рэй Дуглас (читать книги онлайн полностью без регистрации .TXT) 📗
Он осекся, будто оцепенел, и не думал ни о чем — или, во всяком случае, думал, что ничего не думает.
Сестра кивнула.
— Давай спустимся, Тимоти,— сказала она и в тот же миг оказалась внутри его, как рука в перчатке.
— Смотрите все! — Тимоти взял стакан теплой красной жидкости и поднял его так, чтобы увидел весь дом. Все— тети, дяди, кузины, братья, сестры!
Выпил его залпом.
Он протянул руку в сторону сестры Лауры и отдал ей стакан, глядя на нее так, что та замерла. Он почувствовал себя ростом с дерево. Вечеринка притихла. Все стояли вокруг него, ждали и наблюдали. Из дверей выглядывали лица. Нет, они не смеялись. Лицо матери застыло в изумлении. Отец выглядел сбитым с толку, но явно был доволен и с каждым мгновением становился все более гордым.
Тимоти аккуратно ущипнул Лауру возле жилки на шее. Огоньки свечей шатались, будто пьяные; по крыше разгуливал ветер. Изо всех дверей на него смотрели родственники. Он запихнул в рот поганку, проглотил, хлопнул ладонями по бокам и обернулся вокруг.
— Смотри, дядя Эйнар! Теперь я смогу летать!
Его ноги застучали по ступенькам лестницы. Мимо промелькнули лица.
Споткнувшись на самом верху, он расслышал голос матери:
— Тимоти, остановись!
— Хей! — крикнул Тимоти и ринулся в пролет.
На полпути вниз крылья, которые, как ему показалось, он наконец обрел, растворились. Он закричал. Его поймал дядя Эйнар.
Смертельно бледный, Тимоти рухнул в его протянутые руки. И тут его губы заговорили чужим голосом:
— Это Сеси! Это я, Сеси! Приходите повидаться со мной наверх, первая комната налево! — После чего Тимоти расхохотался, и ему захотелось проглотить этот смех вместе с языком.
Смеялись все. Эйнар было усадил его, но он вырвался, вскочил и, расталкивая родственников, торопящихся наверх, чтобы поздравить Сеси, ринулся вперед и был у двери первым.
— Сеси, я ненавижу тебя, ненавижу!
В густой темноте возле платана Тимоти изверг свой ужин, тщательно вытер губы, рухнул на кучу опавших листьев и замолотил кулаками по земле. Затих. Из кармана рубашки, из коробочки, выбрался паучок. Исследовал его шею, взобрался на ухо и начал оплетать его паутиной. Тимоти покачал головой:
— Не надо,, паук, не надо.— Прикосновение мохнатой и нежной лапы к уху заставило его вздрогнуть.— Не надо, паук.— Но рыдания приутихли.
Паучок пропутешествовал вниз по его щеке, остановился на переносице, заглянул в ноздри, будто хотел увидеть мозг, потом взобрался на кончик носа и уселся там, глядя на Тимоти зелеными бусинками глаз, пока не захотелось смеяться.
— Уходи, паук.
Шурша листьями, Тимоти сел. Лунный свет заливал окрестности. Из дома доносились приглушенные скабрезности, какие говорят, когда играют в «зеркальце, зеркальце». Гости возбужденно перекрикивали друг друга, пытаясь разглядеть в стекле ту часть своего облика, которая не появлялась и не могла появиться в зеркале.
— Тимоти! — Крылья дяди Эйнара хлопнули, словно литавры. Тимоти ощутил, что воспрянул духом. Легко, словно наперсток, дядя подхватил его и усадил себе на плечи,— Не переживай, племянник Тимоти. Каждому свое, у каждого — свой путь. У тебя впереди множество разного. Интересного. Для нас — мир умер. Мы уже слишком многое повидали, поверь мне. Жить лучше тому, кто живет меньше. Жизнь дороже полушки, запомни это.
Все ночное утро, с полуночи, дядя Эйнар водил его по дому, из комнаты в комнату, распевая на ходу. Ватага припозднившихся гостей устроила настоящую кутерьму, с ними была и укутанная в египетский саван пра-пра-пра-пра и еще тыщу раз «пра» бабушка — она не говорила ни слова, а держалась прямо, как прислоненная к стене гладильная доска. Впалые глаза мудро, тихо мерцали. За завтраком в четыре утра тысячекратно великую бабулю усадили во главе длиннейшего стола.
Многочисленные юные кузины пировали возле хрустальной пуншевой чаши. Их глаза блестели, словно оливки, на конусообразных лицах, а бронзовые кудри рассыпались по столу, возле которого они пили, отталкивая друг друга своими твердо-мягкими, полудевичьими-полуюношескими телами.
Ветер усилился, звезды засверкали будто с яростью, шум множился, танцы становились бешеными, питье делалось разгульным. Тимоти надо было успеть увидеть и услышать тысячу разных вещей. Мириады теней переплетались, смешивались; мрак взбалтывался, пузырился; лица мелькали, исчезали, появлялись снова.
«Слушай!»
Вечеринка затаила дыхание. Откуда-то издалека донесся удар городских колоколов, сообщавших, что уже шесть утра. Праздник кончился. В такт бьющим часам сотня голосов затянула песню — ей было лет четыреста, не меньше,— песню, которую Тимоти знать не мог. Руки извивались, медленно вращались; они пели, а там, вдалеке, в холодном утреннем просторе, городские куранты окончили свой перезвон и затихли.
Тимоти пел: он не знал ни слов, ни мелодии, но они возникали сами по себе. Он взглянул на закрытую дверь наверху.
— Спасибо, Сеси,— прошептал он,— я простил тебя, спасибо.
Расслабился и позволил словам свободно срываться с его губ голосом Сеси.
Произносились последние прощальные слова, возле дверей образовалась сутолока. Отец и мать стояли на пороге, жали руки и целовались поочередно со всеми уходящими. Сквозь открытую дверь было видно, как на востоке розовеет небо. Холодный ветер выстудил прихожую, а Тимоти чувствовал, что поочередно переходит из одного тела в другое, почувствовал, что Сеси поместила его в дядюшку Фрая, и у него как будто стало сухое, морщинистое лицо, и он взлетел сухим листиком над домом и просыпающимися холмами...
Затем, размашисто шагая по скользкой тропинке, он ощутил, как горят его покрасневшие глаза, что мех его шкуры влажен от росы,— будто внутри кузена Вильяма он тяжело протискивался в дупло, чтобы исчезнуть...
Подобно голышу во рту у дяди Эйнара, Тимоти летел среди перепончатого грохота, заполняя собой небо. А потом — навсегда вернулся в свое собственное тело.
Среди занимающегося рассвета последние гости еще обнимались напоследок, плакали и жаловались, что в мире осталось слишком мало места для них... Когда-то они собирались каждый год, а теперь без встреч проходили десятки лет. «Не забудь,— крикнул кто-то,— встречаемся в Сэлеме, в тысяча девятьсот семидесятом!»
Сэлем. Сэлем. От этих слов мозг Тимоти оцепенел. Сэлем, 1970-й. И там будут дядюшка Фрай, и тыщу-раз-прабабушка в своем вечном саване, и мать, и отец, и Элен, и Лаура, и Сеси, и... все остальные. Но будет ли там он? Доживет ли он до той поры?
С последним, слабеющим порывом ветра исчезли все: множество шарфов, увядших листьев, множество крылатых существ, множество хнычущих, слипающихся в гроздья звуков, бескрайних полночей, безумий и мечтаний.
Мать закрыла дверь. Лаура взялась за метлу.
— Не надо,— сказала мать,— Уберем потом, а сейчас нам надо спать.
Домочадцы разбрелись — кто в подвал, кто на чердак. И Тимоти с поникшей головой пошел через украшенную крепом гостиную. Возле зеркала, оставшегося с вечеринки, остановился, заглянул в него и увидел смертную бледность своего лица, себя — озябшего и дрожащего.
— Тимоти,— сказала мать. Она подошла и прикоснулась ладонью к его лицу.— Сын,— вздохнула она,—запомни, мы любим тебя: Мы все тебя любим. Не важно, насколько ты другой, не важно, что ты нас однажды покинешь.— Она поцеловала его в щеку.— И если ты даже и умрешь, то твой прах никто не потревожит, мы приглядим за ним. Ты будешь лежать спокойно и беззаботно, а я буду приходить к тебе в каждый Канун всех святых и перепрятывать в более надежное место.
Дом затих. Где-то вдали ветер уносил за холмы свой последний груз: темных летучих мышей — гомонящих, перекликающихся.
Тимоти поднимался по лестнице, ступенька за ступенькой, и беззвучно плакал.
Жила-была старушка
— Нет-нет, и слушать не хочу. Я уже все решила. Забирай свою плетенку — и скатертью дорога. И что это тебе взбрело в голову? Иди, иди отсюда, не мешай: мне еще надо вязать и кружева плести, какое мне дело до всяких черных людей и их дурацких затей!